Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке - Рикарда Вульпиус Страница 34
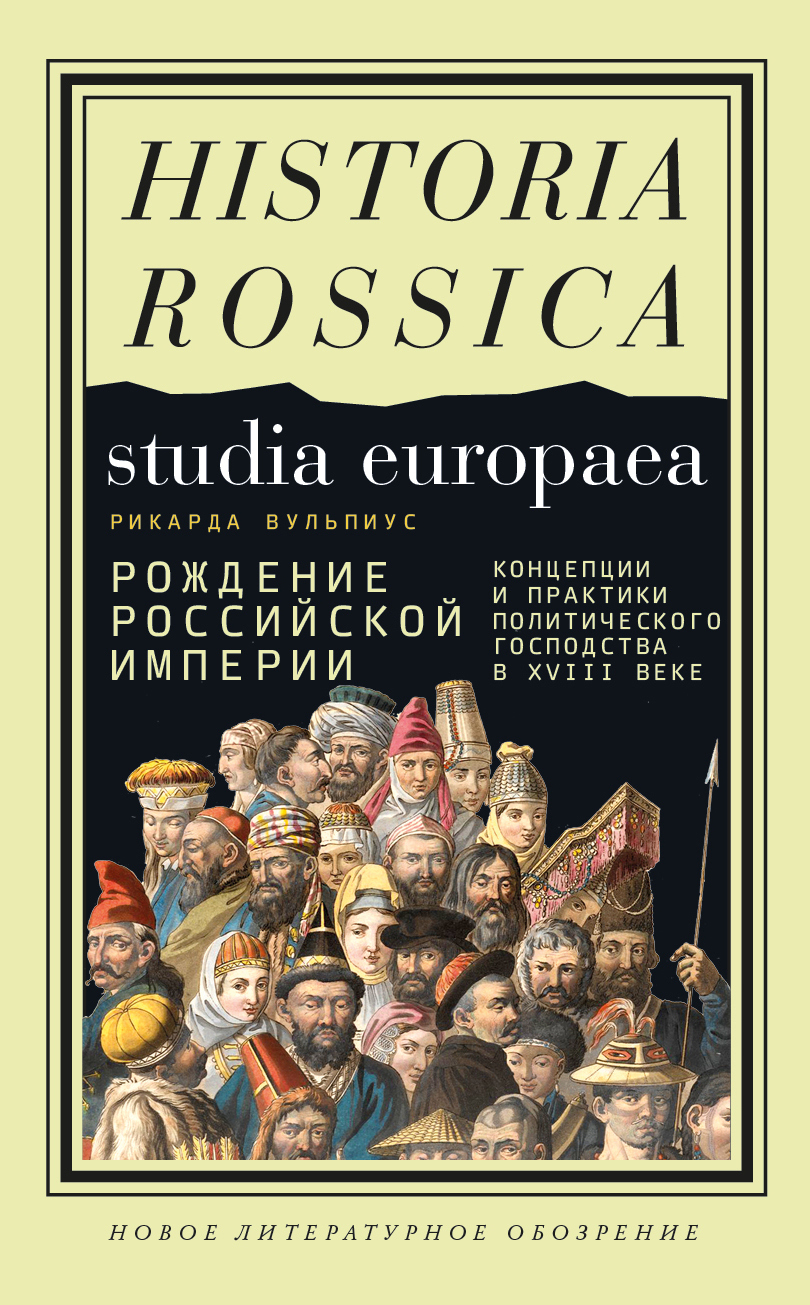
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Рикарда Вульпиус
- Страниц: 34
- Добавлено: 2023-10-31 00:01:09
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке - Рикарда Вульпиус краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке - Рикарда Вульпиус» бесплатно полную версию:После крупной победы над Швецией в Северной войне царь Петр I принял титул «императора». Если до этого страна именовалась Московской Русью, Московским царством, Русской землей или Россией, то отныне она была символически преобразована в «империю». Означало ли это, что произошло некое коренное изменение в развитии страны? И если да, то что именно изменилось? Разве прежде в восприятии государственной элиты еще не существовало империи? И что понимали современники Петра I и его преемниц под «империей»? Заложило ли это понимание основы имперского сознания, которое существует и в наши дни? Книга Рикарды Вульпиус исследует XVIII век как поворотный момент в истории страны и показывает, что процесс формирования империи в царской России вовсе не шел по какому-то исключительному «особому» пути. Дискурсы и практики цивилизаторства, аккультурации и ассимиляции, которыми оперировало российское государство, обнаруживают многочисленные параллели с образом мысли и действиями других колониальных империй. Анализируя институт подданства и практику взятия в заложники нехристианских народов Востока и Юга, исследовательница показывает, как существовавшая в России до XVIII века идея ассимиляции соединяется с европейским цивилизаторским дискурсом и приводит к формированию всеобъемлющего имперского самосознания российской элиты. Рикарда Вульпиус — профессор Мюнстерского университета, специалист по истории Восточной Европы.
Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке - Рикарда Вульпиус читать онлайн бесплатно
К тому моменту, как Татищев изложил свои мысли на бумаге, он уже несколько лет возглавлял Канцелярию Главного правления Сибирских и Казанских заводов и в этой должности приобрел большой опыт в области заложничества: пока башкиры не предоставляли ему заложника, он запрещал вести торговлю с ними на территории горнозаводского хозяйства. С 1736 по 1737 год, вопреки своему скептицизму, он приказывал содержать в Екатеринбургской крепости от 5 до 25 заложников из башкир (от одного до четырех человек на волость). Они должны были служить гарантией того, что башкиры не станут участвовать в крупных восстаниях, а вместо этого будут сотрудничать с российской стороной для их подавления[394].
Однако эта надежда оказалась иллюзией. Татищев пришел к выводу, что практика заложничества вела в тупик: часто башкирам удавалось обмануть российскую сторону при предоставлении заложников. Они выдавали своих заложников за сыновей почтенных старшин, но в действительности посылали ничего не значащих представителей этнической группы, с которыми никто из них не считал себя связанным. Или же башкиры действительно посылали заложников из «лучших и почтеннейших» кругов, но тогда в башкирских волостях не хватало тех, кто мог бы обеспечить спокойствие и порядок[395].
Поэтому уже весной 1736 года Татищев попытался продолжить начинания Анны Иоанновны и не рассматривать заложников исключительно как залог и средство оказания давления. Он старался использовать башкирских заложников как посредников в переговорах с восставшими членами их этнической группы[396]. Но попытка оказалось неудачной во всех отношениях. Башкирские заложники, едва оказавшись внутри своей этнической группы, отказывались от своей миссии и сами принимали активное участие в восстаниях. Приобретенные ими знания о российской стороне даже помогали им выступать в роли предводителей грабительских набегов[397].
В конце 1736 года Татищев на основе опыта с башкирами пришел к выводу, что взятие в заложники подданных не только «неприлично» и слишком затратно из‐за необходимости их содержать, но и малоэффективно. Гораздо более действенным для покорения башкир он считал окружение их новыми крепостными сооружениями и укрепленными линиями[398]. Когда год спустя императрица назначила его преемником умершего Кирилова на должность главы Оренбургской экспедиции, Татищев почувствовал, что настало время для реализации реформаторской идеи Анны Иоанновны. Впервые в истории российско-казахских отношений он при поддержке Кабинета министров назначил казахских старшин третейскими судьями в спорах между российскими купцами и казахами. За это они получали государственное жалованье[399].
В Астрахани Татищев стремился к тому, чтобы наладить работу «судебного органа» под названием «Татарская контора» или «Контора калмыцких и татарских дел», и дал людей в помощь главе этого органа — почти всегда пьяному мирзе Урусову. Однако работа этого первого «суда» провалилась, поскольку многие судьи не только почти не говорили по-русски, но прежде всего не знали ни татарских, ни российских законов[400].
Однако эти трудности не привели к прекращению попыток найти альтернативу заложничеству. По аналогии с «Конторой татарских и калмыцких дел» Елизавета Петровна инициировала учреждение новых «судебных органов» во всех городах Астраханской губернии. Астраханские дворяне с 1742 года возглавляли эти суды вместе с калмыцкими «судьями»[401]. Впрочем, полный отказ от традиционного заложничества по-прежнему казался российскому правительству слишком опасным. Поэтому даже в пределах Астраханской губернии калмыки и татары по-прежнему также удерживались в российских крепостях параллельно с существованием «судебных структур»[402].
3.5. АМАНАТСТВО В РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ
Двойственный подход к продолжению практики заложничества демонстрировал борьбу различных сил и противоположных взглядов внутри имперской элиты. За кулисами между реформаторами и традиционалистами разгорелся спор о том, есть ли вообще будущее у заложничества. Этот конфликт, в последующие десятилетия отразившийся в зигзагообразном курсе царского правительства, лучше всего можно проиллюстрировать на примере действий российских властей по отношению к тем подданным, которые вошли в ее состав только в 1730‐х годах и, следовательно, еще не были знакомы с российской имперской практикой, а именно с казахским Младшим жузом. Обращение с этим жузом — представлявшим с точки зрения царского правительства геополитически наиболее важную этническую группу южных степных народов — особенно наглядно демонстрирует трансформацию заложничества в XVIII веке и тезис о вкладе, который этот период внес в историю империи.
Через заднюю дверь: введение заложничества у казахов
После того как в мае 1734 года Анна Иоанновна выступила за отказ от прежнего метода взятия заложников во взаимоотношениях с казахами, царская администрация впервые нарушила многовековую традицию взаимодействия с нехристианскими этническими группами и в жалованной грамоте о принятии казахов в российское подданство не предъявила требований о предоставлении заложников. Вместо этого Тевкелев, полномочный представитель на переговорах о принятии в подданство, потребовал от предводителя казахского Младшего жуза Абулхаир-хана, чтобы тот «добровольно» и «в качестве посланника» отправил в Петербург своего одиннадцатилетнего сына султана Ералы, а также двоюродного брата Нияза[403]. Абулхаир-хан, который надеялся на поддержку царского правительства во внутриказахской борьбе за власть, согласился на «добровольную отправку». Но зигзаги правительственного курса в обращении с заложниками принесли ему горькое разочарование[404].
В 1734 году обоих казахских «посланников» действительно отпустили из Петербурга. Но И. К. Кирилов, назначенный в июне 1734 года главой Оренбургской комиссии, не позволил ханскому сыну вернуться в казахскую степь. Вместо этого он без согласия отца поместил его в качестве заложника в Оренбургской крепости, сооруженной в августе 1735 года[405]. Несмотря на настойчивые просьбы Абулхаир-хана вернуть ему сына, несмотря на напоминания о начале возмущений среди казахских старшин, которые сочли российские действия бесчестием, и даже несмотря на готовность хана послать вместо сына племянника, султану Ералы только в 1738 году благодаря содействию нового уполномоченного Василия Татищева было позволено вернуться в казахский жуз. И произошло это только после того, как казахский хан вновь принес присягу на верность.
Совершенно очевидно, что царская администрация, несмотря на первоначально совершенно противоположные планы, пришла к выводу, что не существует сравнимой по эффективности альтернативы заложничеству для обеспечения подчинения казахов. Таким образом, к тому времени как казахи уже давно подписали российский вариант присяги на верность, заложничество вновь
Конец ознакомительного фрагмента
Купить полную версию книгиЖалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



