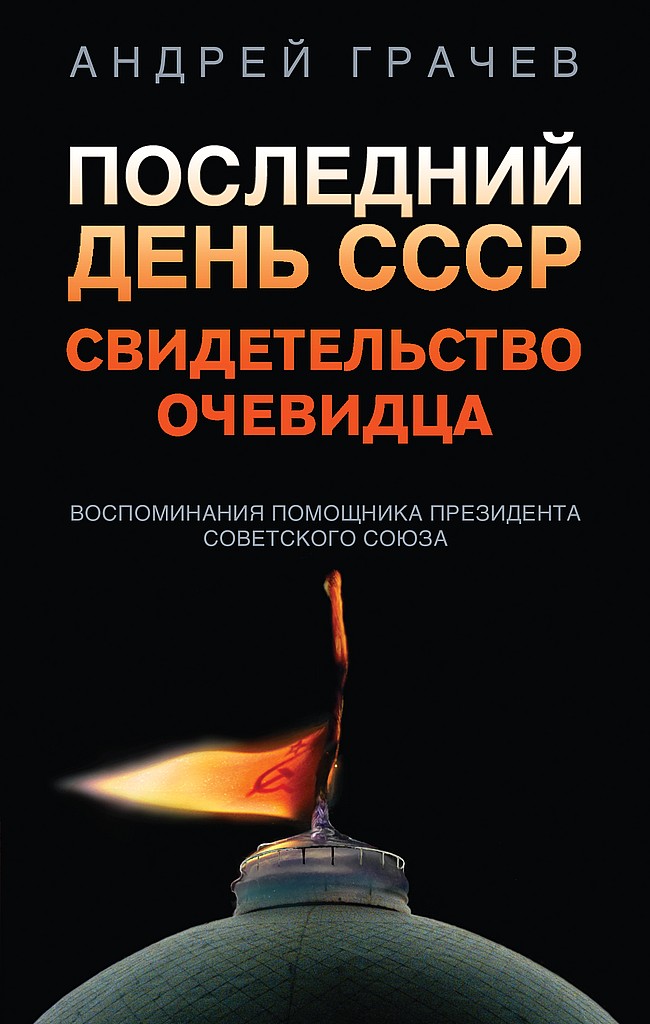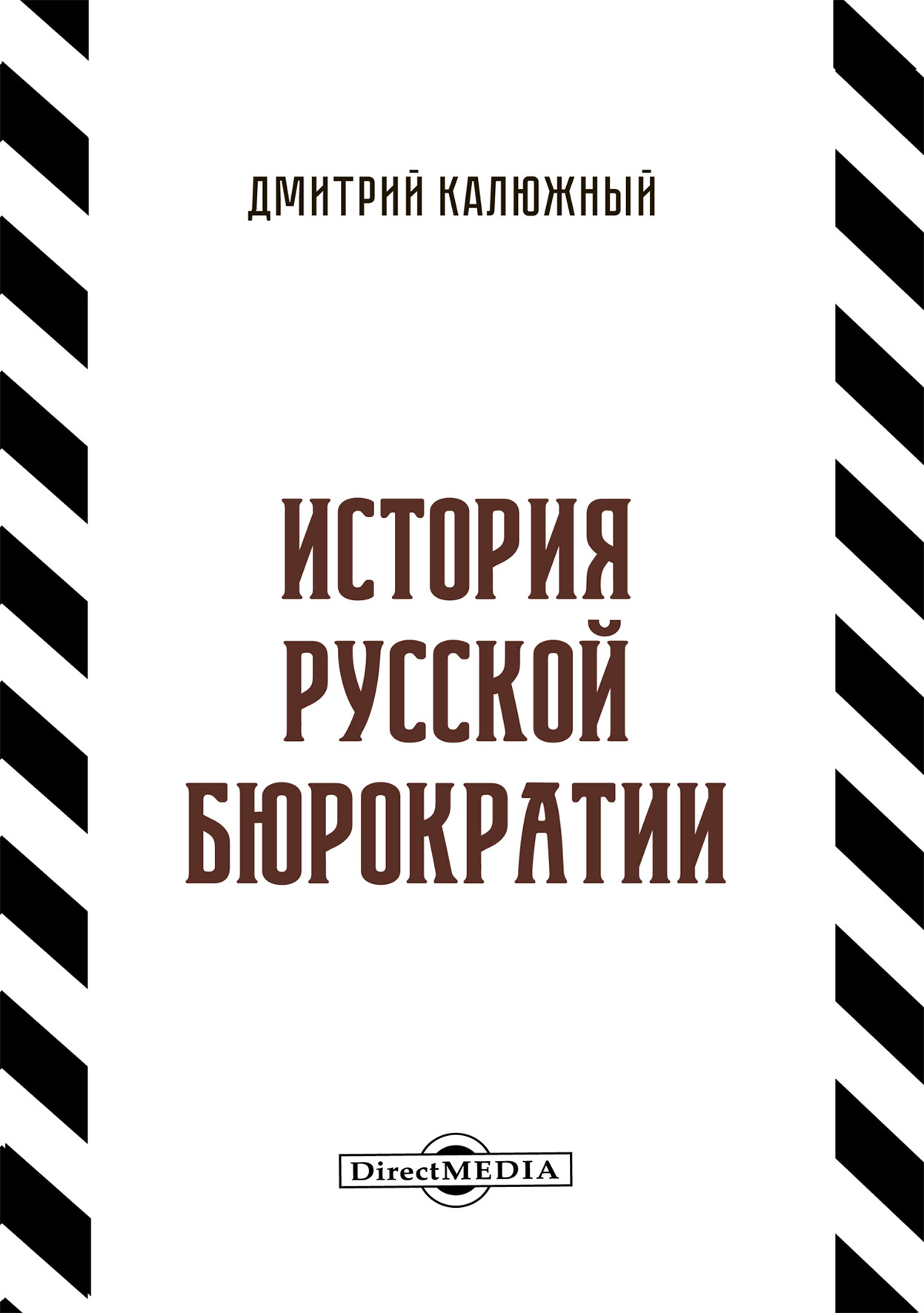Русские уроки истории - Дмитрий Евгеньевич Куликов Страница 32
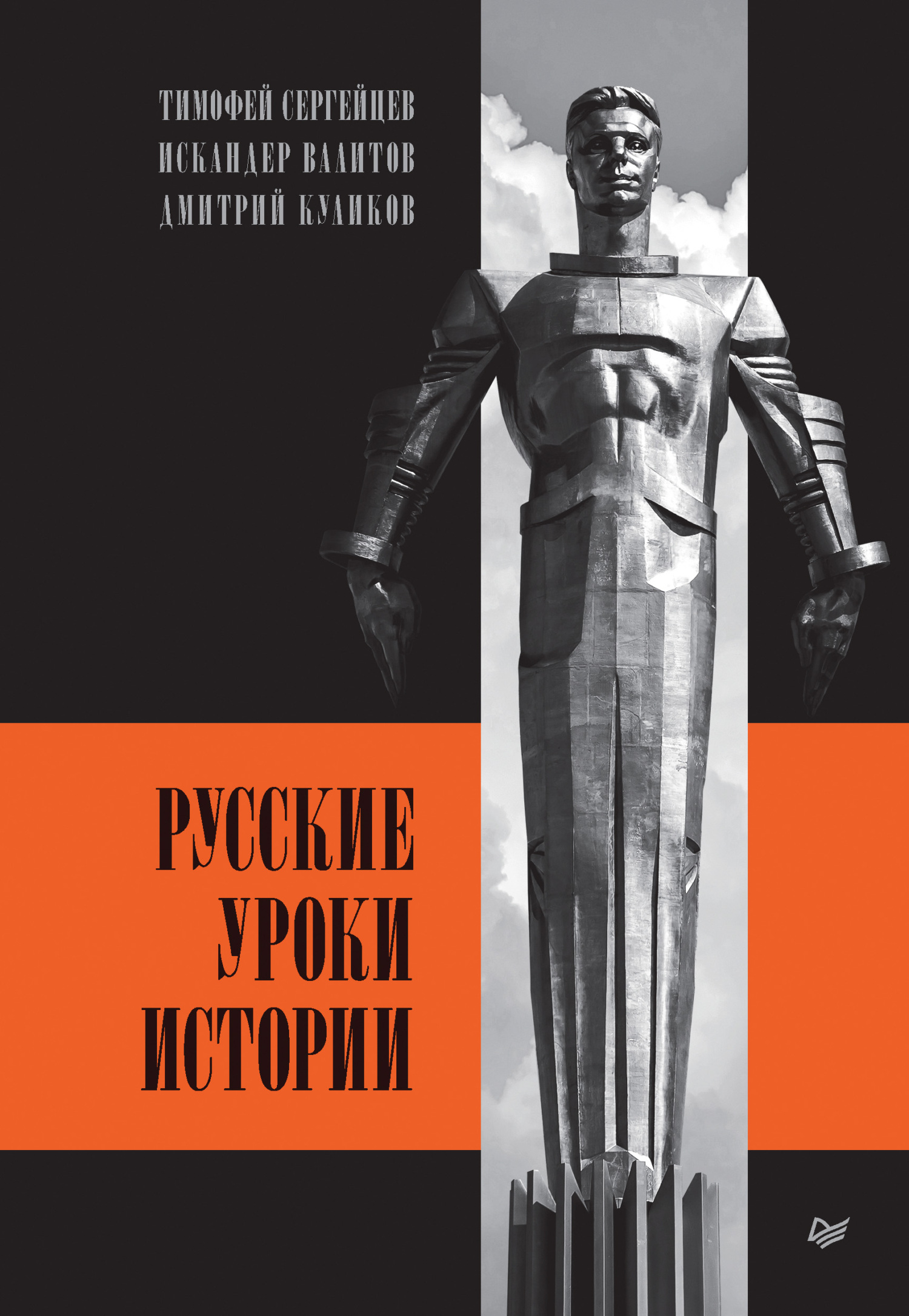
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Дмитрий Евгеньевич Куликов
- Страниц: 60
- Добавлено: 2023-02-04 10:01:45
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Русские уроки истории - Дмитрий Евгеньевич Куликов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Русские уроки истории - Дмитрий Евгеньевич Куликов» бесплатно полную версию:Первое самостоятельное издание текста 2013 года, в котором предсказан сценарий противостояния России и Запада, а также перспективы его развития. Книга существенно доработана и дополнена, прошла научное редактирование. История России рассматривается как одна из магистральных линий мировой и европейской истории. Судьбу русской цивилизации авторы видят на пути осуществляемого Россией фундаментального разрешения противоречий, лежащих в основаниях европейского развития.
Русские уроки истории - Дмитрий Евгеньевич Куликов читать онлайн бесплатно
Демократическое распределение власти в западном обществе было ограничено сословным, имущественным, половым, расовым цензами в пользу радикального меньшинства. В этом качестве она была подобием, «отражением» первой и последней сущностной демократии, делившей общество на свободных людей и рабов. Но и среди свободных (правящего класса) власть концентрировалась в руках его верхушки, не обязанной неограниченно отвечать за свои действия имуществом и жизнью — эти люди получили возможность безнаказанно уходить в отставку.
Можно сказать, что техническая демократия является той приемлемой и необходимой для капитала модернизацией власти и государства, которая позволила капиталу эффективно использовать их в своих целях, установив политическую монополию и поставив ее над обществом и государством. Капиталистическое общество ликвидирует суверена и занимает его место — непублично, незаконно, вне права, прикрываясь расплывчатым понятием нации. Понятие нации является чисто политическим и не имеет правового содержания. Оно необходимо для установления верховенства политики над правом, то есть государством. Попытка вновь придать нации правовое содержание и тем самым реставрировать суверенитет государства в её рамках превращает национализм в нацизм. В отличие от сущностной демократии при технической демократии раздел власти в обществе происходит теневым образом, ввиду преобразования отношений власти в управление и влияние. Либерализм — идеальное состояние, когда формально свободны все, а реально только успешные («избранные» в протестантском смысле), — становится идеологией капиталистической технической демократии.
Всеобщая управляемая демократия
Порядок технической цензовой демократии мог существовать только до тех пор, пока в мире не возникло первое социалистическое общество, политическая монополия коммунистической партии, контролирующая половину планеты.
Общество, победившее в мировой войне, обеспечившее себе научно-техническое лидерство (или как минимум паритет с Западом), действительно дало всем своим гражданам то, что оно им публично — то есть правовым образом — обещало. Советский гражданин принимал участие во власти за счёт массовой солидарности с открыто объявленными историческими целями, к которым власть действительно стремилась. Власть в социалистическом обществе была и нормативно, и реально публичной — в пику практически непубличной западной технической демократии. Идеологически конкурировать с таким общественным порядком техническая демократия могла, только став всеобщей, создав видимость массового участия населения в принятии решений. Представительство окончательно стало ведущей идеологемой всеобщей управляемой демократии, а население — окончательно признано недееспособным в обмен на всеобщую формальную правоспособность. Представитель отныне не только должен быть решать, что «лучше» для представляемого, но и управлять его поведением.
Идол буржуазии — договор. Договор — дело частное и потому тайное. Посторонним о нём знать ни к чему. Римское право жёстко противопоставляло частный и публичный порядок. Именно второй и был государством, империей. Идея замены государства общественным договором была попыткой представить в качестве публичного порядка частный характер отношений в обществе, сам способ существования которого есть договор как процесс (борьба за заключение/нарушение договора).
У этого были определенные исторические основания. В период становления варварских государств Западной Европы города в основном сохраняли автономию и самоуправление римского образца. А следовательно — и римское право. Но ввиду исчезновения прежнего — римского имперского — государства римское публичное право (Jus publicum) вышло из употребления. Таким образом, римское право этой эпохи свелось к частному праву (Jus privatum), регулирующему отношения между частными лицами (в том числе коллективными, каковыми были и сами города). Важнейшей формой таких правоотношений был договор, фиксирующий практически осуществимый баланс интересов на основе непротивления сторон.
В городах властью обладал «народ», то есть управление ими было демократическим. Народ — это совокупность всех полноправных городских граждан. То есть тех, кто обладал правом избирать городских магистратов и коллективные органы управления, становиться магистратами и входить в состав этих органов. Это были главы семей, удовлетворявших определённому имущественному цензу. Члены семьи, домочадцы, лица, не имеющие достаточного имущества или получающие средства к существованию от других семей (работающие в них по найму, получающие от них пенсии, пособия и т. п.), к полноправным гражданам не относились. Таким образом, «народ» не только не совпадал с населением города, но и составлял его незначительное меньшинство. Но это ни в коем случае не было «олигархией», так как народ был достаточно многочислен и представлял все основные экономические силы и интересы своего города. Жизнь и благополучие подавляющего большинства населения прямо зависели от этих людей. А «видные граждане» — главы доминирующих семейств и гильдий — хотя и играли первую скрипку в городской жизни, но не могли единолично или вместе принимать обязательные для всего города решения.
Отстаивая свой жизненный уклад от посягательств варварских государств, город сделал договор своим главным орудием. В итоге сложилась[25] классическая для Западной Европы XIII–XVII веков модель государственного устройства, в которой города были по существу анклавами иного образа жизни и общественного устройства в феодальных государствах. Их отношения с короной определялись в основном местными статутами и системой иммунитетов и привилегий, являвшихся результатами разновременных договоров с короной, церковью и местными феодалами. При этом города оставались юридически автономными и самоуправляемыми общинами, признававшими суверенитет (власть) короны лишь в отношениях, признаваемых ими и закреплённых указанными договорами.
Укрепление экстерриториальных связей между городами, объединение их усилий по содействию торговле (урегулированию таможенных пошлин, организации межтерриториального финансового оборота и кредита, охране купеческих караванов и судов) привело к созданию в XII веке Ганзейского союза, объединившего 130 городов и несколько тысяч других поселений всеобъемлющей системой договоров. Наряду с другими менее значительными объединениями Ганзейский союз образовал общеевропейскую торговую инфраструктуру, функционировавшую независимо от феодальных властей. Действующие лица этого обширного пространства не только не ставили власть правителей под сомнение, но и стремились достичь с ними полюбовного соглашения.
Так формировался опыт договорного оформления отношений между публично-правовыми (государство, корона) и частноправовыми (города, их союзы) образованиями. На его основе складывалось убеждение (во многом иллюзорное), что общественные отношения вообще могут быть описаны исключительно в частноправовых категориях. Эта практика впоследствии стала одним из источников идеи «общественного договора».
Концентрация деловой жизни, а значит и судебных споров в городах, привела к тому, что там стали располагать высшие судебные органы. Во Франции они назывались «парламентами» (от старофранц. parlemento — «словопрения»). Присущая им свобода толкования законов позволила впоследствии превратить их в законодательные органы. Начиная примерно с XII века в их составе стали преобладать профессиональные юристы — горожане. Так город окончательно стал средоточием правовой мысли и практики. Стоит ли удивляться, что именно городской взгляд на природу права и государства, в конечном счете, возобладал на Западе.
В процессе формирования централизованных государств Западной Европы города стали опорой власти
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.