Из новейшей истории Финляндии. Время управления Н.И. Бобрикова - Михаил Михайлович Бородкин Страница 3
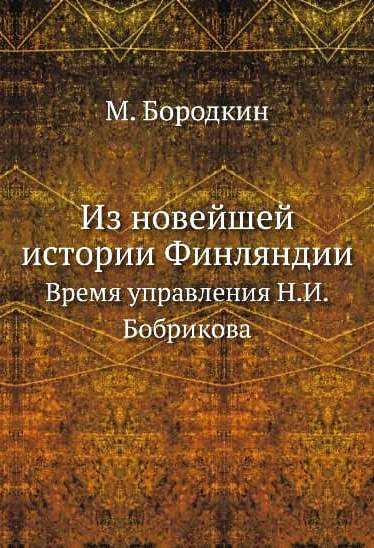
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Михаил Михайлович Бородкин
- Страниц: 149
- Добавлено: 2025-01-26 09:06:43
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Из новейшей истории Финляндии. Время управления Н.И. Бобрикова - Михаил Михайлович Бородкин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Из новейшей истории Финляндии. Время управления Н.И. Бобрикова - Михаил Михайлович Бородкин» бесплатно полную версию:Бобриков Н.И. (1839–1904) был генерал-губернатором Финляндии с 29 августа 1898 года. Он быстро стал ненавистен в Финляндии, поскольку являлся убежденным проводником неуклюжих и надменных попыток российской самодержавной власти навязать финляндскому обществу архаичные и чуждые для него законы и установления, а также непреклонным сторонником ограничения утвержденной автономии Великого княжества. В 1899 году Николай II подписал "Февральский манифест", который, с финской точки зрения, положил начало первым "Годам угнетения" (фин. sortovuodet). В этом манифесте царь постановил, что Сейм Финляндии может быть отменен законодательно, если это отвечает интересам Российской империи. Полмиллиона финнов подписали протестную петицию Николаю II с просьбой отменить манифест. Царь даже не принял делегацию с петицией.
В 1900 году в делопроизводство учреждений и Сената введён русский язык. 29 июня 1901 года был утвержден указ о воинской повинности, по которому отменялась самостоятельная финляндская армия, а финнов стали призывать на общих основаниях в русскую армию. В 1903 году царь «Высочайшим рескриптом» наделил Бобрикова диктаторскими, по сути, полномочиями, дабы тот мог увольнять правительственных служащих, закрывать гостиницы, книжные склады, газеты и пр.
16 июня 1904 года финский чиновник Эйген Вальдемар Шауман (швед. Eugen Valdemar Schauman) трижды выстрелил из «браунинга» в Бобрикова, а затем дважды в себя. Шауман умер мгновенно, в то время как Бобриков скончался утром следующего дня.
Из новейшей истории Финляндии. Время управления Н.И. Бобрикова - Михаил Михайлович Бородкин читать онлайн бесплатно
Финляндии не только даровано было внутреннее самоуправление, но от России отторгли завоевание Петра Великого — Выборгскую губ. — и присоединили к пей. Это «воссоединение» гр. Г. М. Армфельт ставил себе в величайшую заслугу, сказав: «после труднейшей борьбы я одержал славную и для человечества, и для Финляндии крайне полезную победу». При неизмеримом пространстве русских земель и при общем малом политическом развитии, большинство в Империи посмотрело на эти уступки с полным равнодушием и только некоторые патриоты, подобно Ф. Вигелю, негодовали, не находя в истории другого «примера столь несправедливого действия». Вигель назвал даже эти деяния «изменой России».
Несколько других трезвых мыслей было высказано главой заговора декабристов, П. И. Пестелем. «Россия, — говорил он, — есть государство единое и нераздельное, в смысле единства верховной власти, образа правления и законов для всех частей государства... Все племена должны быть слиты в один народ». Пестель находил даже, что следует стремиться «к совершенному обрусению» всех племен, населяющих Россию, не исключая и финляндцев. По мнению Пестеля, «Финляндия не только должна быть лишена привилегированного положения status in statu, дарованного ей Императором Александром I, но и должна быть слита с Россией обрусительными мероприятиями». Благо государства требует тесного объединения, полного слияния всех частей, всех подчиненных народностей. В политической исповеди, которую этот декабрист представил следственному комитету, имеется замечательное признание о том, что «внутренний ропот» против правительства возбуждали в нем крепостное право, военные поселения, «подкупливость» судов, а также, «преимущества разных присоединенных областей, т. е. Финляндии и Польши, которые, как известно, с одной стороны возбуждали чувство обиды в русских людях, с другой стороны заставляли их ожидать политической свободы и для России».
Приведенные слова в устах декабриста, несомненно, чрезвычайно характерны. Но мысли Пестеля возникли позже, а в период присоединения Финляндии о России и ее нуждах точно забыли.
Во главе Финляндии поставлен был крайне сомнительной нравственности авантюрист Г. М. Спренгтпортен, а руководителями и докладчиками дел этой новой окраины вскоре явились в Петербурге гр. Густав Армфельт и К. Ребиндер.
На присоединенный от Швеции край, как из рога изобилия, посыпались всякие милости и преимущества, коими далеко не обладали жители коренной России, создавшие великую Империю с затратой многовекового труда. Финляндцы сохранили весь прежний уклад своей жизни и политические особенности. В администрации, суде и школе оставлен был шведский язык. Тягость воинской повинности на короткий срок была совершенно снята, а на остальное время облегчена до неслыханных размеров. Финляндия сделалась каким-то исключительным баловнем, которая получала только преимущества и ничем не обязывалась при этом перед Россией. Ее оградили двойным законодательством — местным и имперским — от всякого соприкосновения с Россией и всякого русского контроля. Она получила свой сенат и даже ее главнейшие дела, тесно соприкасавшиеся с остальной Россией, крайне редко подвергались в учреждениях Империи обсуждению с точки зрения общегосударственных интересов. Все учебное дело Финляндии осталось вне малейшего надзора русской власти, а Гельсингфорсский университет получил особое положение даже среди автономной окраины. Русских людей не допустили ни в одно местное учреждение; даже служба в финских войсках была им воспрещена.
Император Александр I предвидел, что союз с Наполеоном не мог быть прочен и скоро ему предстояло ополчиться против мирового завоевателя, поэтому он, видимо, желал умиротворения покоренной Финляндии и в этих видах одарил край всякими льготами. Кроме того Державный Покоритель финляндской окраины хотел, чтобы жители «благословляли Провидение, создавшее новый порядок». В этом причина дарования им такого внутреннего устройства, которое представляло «несравненно более выгод», «нежели сколько они имели, быв под обладанием Швеции». Всеми этими мерами Государь, очевидно, рассчитывал расположить финляндцев к России и создать из них новых верных подданных.
Но каждое дело имеет свою оборотную сторону. Прежде всего, едва ли история дала достаточное число доказательств, позволяющих сделать вывод о существовании политической благодарности народов. Политическая признательность если и существует, то в весьма ограниченных дозах и как редкое исключение, а потому строить единственно на ней государственное объединение вновь завоеванной окраины с центром Империи едва ли было правильно. Для прочности государственной и политической связи нужны еще другие скрепы и средства. Прежде всего — общегосударственные учреждения, подобные тем, кои объединяли Швецию и Финляндию в одно политическое целое, а затем — установление общегосударственного языка, школы, работающей в интересах метрополии, печати, расположенной к новому соединению и т. п. Но обо всем этом своевременно не позаботились и не взяли в свои руки ни школы, ни печати, ни части администрации, потому что все устраивали тогда в крае крайне теоретично и с забвением первейших интересов России. Создалось такое положение, что нигде в крае не было ни русского глаза, ни нашего контроля. В эту совершенно неизвестную нам среду введено было одно только русское лицо — генерал-губернатор. Но что он мог знать о степени расположения к русскому правительству местного населения, и что ему могло быть известно о том направлении, в котором работали школа, печать, суд и администрация? Почти ничего, потому что начальник края «шагу не мог ступить без переводчика», как заявил в двадцатых годах гр. А. А. Закревский. Во всем и вся финляндцы сами оценивали себя и рекомендовались нашему правительству. На все в этой окраине мы вынуждены были смотреть через финляндские очки, так как Государю дела докладывал министр статс-секретарь из финляндских уроженцев, генерал-губернатору — финляндец, стоявший во главе его канцелярии, а военному министру (впоследствии) — генерал, избранный также из финляндцев и т. д. Мало того; в шестидесятых годах, т. е. именно в то время, когда финляндцы особенно добивались свободы печати, их представители выхлопотали установление правила, в силу которого цензуру русских статей о Финляндии, предназначенных для русских изданий, держали в финляндском статс-секретариате!
Имея перед собой эту совершенно невероятную картину, русский человек должен остановиться перед ней в серьезном раздумье. Создалось такое, например, положение, что во время неудачной для нас войны, неприятелю, ворвавшемуся в Финляндию, достаточно было бы только сместить генерал-губернатора, чтобы вся область представила из себя совершенно независимую от России часть, так как все остальное управление в Великом Княжестве находилось в руках финляндцев и край решительно ничем не был бы связан с Россией. Финляндцы духовно продолжали тяготеть к Швеции, куда влекла их
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

