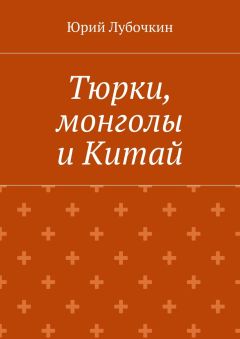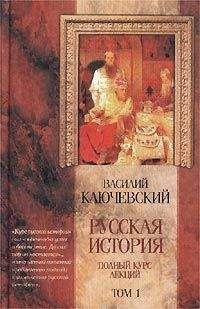Василий Бартольд - Тюрки. Двенадцать лекций по истории тюркских народов Средней Азии Страница 27

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Василий Бартольд
- Год выпуска: -
- ISBN: -
- Издательство: -
- Страниц: 54
- Добавлено: 2019-02-08 21:16:19
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Василий Бартольд - Тюрки. Двенадцать лекций по истории тюркских народов Средней Азии краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Василий Бартольд - Тюрки. Двенадцать лекций по истории тюркских народов Средней Азии» бесплатно полную версию:Академик Василий Владимирович Бартольд (1869- 1930) как-то заметил, что изучение истории тюрок по первоисточникам требует таких навыков, которые редко соединяются в одном лице, ибо если взять хотя бы языки, то надо знать в совершенстве, кроме тюркских, как минимум арабский, персидский и китайский, а также обладать массой специальных знаний. Сам он — тюрколог, арабист, исламовед, историк, архивист, филолог, полиглот — был именно таким человеком, являя собой редкий тип ученого-энциклопедиста. В.В. Бартольд опирался в своих работах на множество источников и, как никто другой, — благодаря своим глубоким знаниям — умел их сопоставлять и анализировать. Курс лекций по истории тюркских народов был написан им по просьбе турецкого правительства, прочитан на турецком языке в Стамбульском университете в июне 1926 года и позже переведен на основные европейские языки. Эта работа, ставшая классикой тюркологии, сохраняет актуальность по сей день, однако достоинство ее еще и в том, что она написана предельно просто и ориентирована на обычного читателя.
Василий Бартольд - Тюрки. Двенадцать лекций по истории тюркских народов Средней Азии читать онлайн бесплатно
Культ Ахмада Ясеви, как тюркского святого по преимуществу прочно держался на Сырдарье, как показывает великолепное здание, построенное над его могилой в конце XIV века Тимуром. Среди учеников и преемников Ахмада был целый ряд мистиков, писавших по-тюркски и носивших тюркское прозвание ата — «отец», в том числе Хаким-Ата, или Сулейман Бакыргани[107], деятельность которого была связана с Хорезмом. Подобно Ахмаду, Хаким-Ата оставил сборник мистических наставлений на тюркском языке, но не в стихах, как Ахмад, а в прозе. Изречения Хаким-Ата, подобно изречениям Ахмада, были написаны простым языком и предназначены для широких масс{31}.
Жизнь Хорезма в эти века, когда он подвергался процессу отюречения, представляет большой интерес в связи с вопросом, насколько постепенно установившееся в Туркестане преобладание тюркского элемента влекло за собой упадок культуры. Из европейских ориенталистов о роли тюрок как элемента, враждебного культуре, определеннее всего высказался знаменитый немецкий ориенталист Нёльдеке[108]. По мнению Нёльдеке, завоевание тюрками государства Саманидов было «одной из самых печальных катастроф в истории этих стран». Позже Нёльдеке добавил, что считает вторжение тюрок в образованный мусульманский мир «всемирно-историческим несчастием первой степени». Но в Хорезме мы имеем пример высококультурной страны, где не только установилась власть тюрок, но даже получил преобладание тюркский язык; между тем трудно было бы привести какие-нибудь факты, которые бы свидетельствовали о более низком культурном уровне Хорезма XIII века сравнительно с Хорезмом X и XI веков. Сведения о Хорезме, сообщенные Якутом, бывшим там непосредственно перед монгольским нашествием, свидетельствуют о значительном развитии городской жизни и даже о расширении культурной площади, особенно в юго-западной части Хорезма. Из других известий мы знаем, что хорезмийские купцы совершали в Средней Азии еще более отдаленные путешествия, чем прежде, и приобретали влияние в еще более отдаленных странах; в 1218 году к хорезмшаху Мухаммеду[109] приезжал хорезмиец Махмуд в качестве посла от Чингисхана. Очень вероятно, что этот Махмуд — одно и то же лицо с «послом Махмудом» Махмудом Ялавачем[110], который в монгольскую эпоху был наместником Пекина, тогда как его сын Масуд-бек[111] управлял культурными областями Средней Азии. Титул бек и чисто тюркские имена двух из сыновей Масуда заставляют полагать, что сам он и его отец Махмуд были по языку тюрками.
О высоте умственной культуры свидетельствует широкое распространение в Хорезме, еще в XI веке, рационалистической богословской школы мутазилитов, процветавшей и в XIII веке. Богословские споры велись в Хорезме с большим тактом, без проявления грубого фанатизма; если кто-нибудь пытался в слишком резких словах отстаивать свое мнение, его тотчас останавливали.
Насколько прочно утвердилась в Хорезме мутазилитская школа, видно из того, что она пережила монгольское нашествие, хотя именно Хорезм, вследствие оказанного им в 1221 году упорного сопротивления, подвергся со стороны монголов особенно страшному опустошению. Сельскохозяйственная культура, по-видимому, не могла быть восстановлена в полной степени, и культурная площадь еще в XIV веке была менее значительна, чем в домонгольскую эпоху, но столица Хорезма Ургенч уже через несколько лет после 1221 года была восстановлена приблизительно на том же месте и описывается путешественниками монгольской эпохи, мусульманскими и европейскими, как один из главных городов на торговом пути из Передней Азии и Европы на Дальний Восток. Арабский путешественник Ибн Баттута[112], бывший там в 1333 году, называет Ургенч «одним из самых больших, значительных и красивых тюркских городов».
Хорезм и культурно связанные с ним города по нижнему течению Сырдарьи были местом оживленной литературной и научной деятельности как до монгольского нашествия, так и после него. Большое число имен авторов, писавших в Хорезме и соседних с ним местностях, и названий их сочинений приводится в истории арабской литературы Брокельмана[113]; насколько мне известно, константинопольские библиотеки дают возможность значительно пополнить эти сведения. Преобладают, конечно, памятники богословской литературы, но и эти памятники представляют интерес не только для богословов; в одном из них, как мне сообщили, приводятся фразы на хорезмийском языке. Среди происходивших из Хорезма или действовавших там в XII веке мы видим таких ученых мирового значения, как Замахшари[114] и Шахрастани[115]. Разумеется, от таких ученых в то время трудно было ожидать проявления местного или национального (тюркского) патриотизма, но любопытно, что для последнего хорезмшаха Джелал ад-дина[116] (он покинул Хорезм в начале 1221 года, в ноябре того же года бежал в Индию, с 1223 года действовал в Западной Персии и в 1231 году погиб в войне с монголами) была составлена неким Мухаммедом ибн Кайсом, о котором мы никаких других известий не имеем, «большая книга» о тюркском языке, по-видимому по-арабски. После сочинения Махмуда Кашгарского это, насколько известно, первый труд о тюркском языке; к сожалению, книга Мухаммеда ибн Кайса не дошла до нас и существование ее известно только по двум ссылкам писавшего уже при монголах Джемаль ад-дина Ибн Муханны.
По-видимому, тюрки в Хорезме не только усвоили высокую для этого времени культуру, которую они там нашли, но воспользовались ею для дальнейшего развития тюркско-мусульманской литературы. Без тюркско-хорезмийской культуры домонгольского периода трудно было бы понять то значение, которое в монгольский период имели в истории тюркской литературы Хорезм и Золотая Орда. Произведение золотоордынского поэта хорезмийского происхождения, относящееся к 1353 году, написано на том литературном языке, который потом, в эпоху Тимуридов[117], был назван чагатайским; притом оно написано не в Хорезме, откуда происходил автор (его прозвание — Хорезми[118]), а на берегах Сырдарьи. Поэт Хорезми имел предшественников; сохранилась рукопись поэтического сочинения, написанного не при Джани-беке[119], как произведения Хорезми, но для его старшего брата Тинибека[120], который назван царевичем (шахзаде), из чего видно, что автор писал еще при его отце Узбеке[121], то есть до 1340 года. Даже в Крыму, где в домонгольский период мусульман, насколько известно, не было совсем, была написана поэма о Юсуфе и Зулейхе, известная нам по старому переводу на южнотюркский литературный язык, возникший в монгольский период и впоследствии названный османским.
На нижнем течении Сырдарьи, в городе Барчкенде, известном также под названиями Барчын и Барчынлыг, во второй половине XIII века жил ученый факих Хусам ад-дин Хамиди аль-Асими Барчынлыги, писавший сочинения на трех языках, причем, по словам знавшего его лично историка Джемаля Карши, его сочинения на арабском языке были красноречивыми, на персидском — остроумными, на тюркском — правдивыми. Насколько известно, это первое в мусульманской литературе сопоставление языков арабского, персидского и тюркского как трех литературных языков мусульманского мира. Сам Джемаль Карши был родом из Алмалыка, где он родился около 1230 года, и впоследствии большею частью жил в Кашгаре; с Хусам ад-дином он познакомился в Барчкенде, куда ездил в 672 / 1273–1274 году. Рассказ Джемаля Карши показывает, что культура Золотой Орды оказывала влияние на культуру Туркестана еще в XIII веке. Факт этого влияния до последнего времени оставался совершенно неизвестным как самим среднеазиатским тюркам, так и европейским ученым. Бабур[122] в начале XVI века полагал, что произведения классического чагатайского поэта Алишера Навои[123] написаны на том же языке, на котором при нем говорили в Фергане, в городе Андижане. Радлов в 1888 году старался доказать, что Бабур ошибался и что чагатайский язык был искусственным литературным языком, не связанным с местной разговорной речью; по мнению Радлова, происхождение этого языка связано исключительно с культурными влияниями, идущими с востока на запад, начиная с литературного языка уйгуров (об орхонских надписях тогда не было сведений) и кончая составленной в 1310 году и написанной, как полагал Радлов, «еще чистым уйгурским языком» «Книгой о пророках». Распространение того же литературного языка в Золотой Орде, о чем свидетельствует язык относящихся к концу XIV века ярлыков Тохтамыша[124] и Тимур-Кутлуга[125], Радлов относит, по-видимому, только к XIV веку; по его мнению, ярлыки были написаны человеком, «сведущим в литературном чагатайском языке». В его время еще нельзя было предполагать, что самый чагатайский язык образовался в связи с культурным влиянием Золотой Орды на Туркестан, а не наоборот.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.