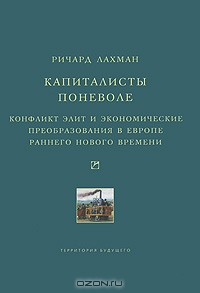Что такое историческая социология? - Ричард Лахман Страница 26

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Ричард Лахман
- Страниц: 52
- Добавлено: 2022-09-19 18:01:30
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Что такое историческая социология? - Ричард Лахман краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Что такое историческая социология? - Ричард Лахман» бесплатно полную версию:В этой новаторской книге известный американский исторический социолог Ричард Лахман показывает, какую пользу могут извлечь для себя социологи, обращаясь в своих исследованиях к истории, и какие новые знания мы можем получить, помещая социальные отношения и события в исторический контекст. Автор описывает, как исторические социологи рассматривали истоки капитализма, революций, социальных движений, империй и государств, неравенства, гендера и культуры. Он стремится не столько предложить всестороннюю историю исторической социологии, сколько познакомить читателя с образцовыми работами в рамках этой дисциплины и показать, как историческая социология влияет на наше понимание условий формирования и изменения обществ.
В своем превосходном и кратком обзоре исторической социологии Лахман блестяще показывает, чем же именно она занимается: трансформациями, создавшими мир, в котором мы живем. Лахман предлагает проницательное описание основных областей исследований, в которые исторические социологи внесли наибольший вклад. Эта книга будет полезна тем, кто пытается распространить подходы и вопросы, волнующие историческую социологию, на дисциплину в целом, кто хочет историзировать социологию, чтобы сделать ее более жизненной и обоснованной.
— Энн Шола Орлофф,
Северо-Западный университет
Один из важнейших участников «исторического поворота» в социальных науках конца XX века предлагает увлекательное погружение в дисциплину. Рассматривая образцовые работы в различных областях социологии, Лахман умело освещает различные вопросы, поиском ответов на которые занимается историческая социология. Написанная в яркой и увлекательной манере, книга «Что такое историческая социология?» необходима к прочтению не только для тех, кто интересуется <исторической> социологией.
— Роберто Францози,
Университет Эмори
Что такое историческая социология? - Ричард Лахман читать онлайн бесплатно
Проследив эту стратегию во времени, Барки показывает как причины того, почему османы смогли так долго поддерживать свое владычество, так и того, почему в конце концов их стратегия потерпела крах. Султаны жаловали право пожизненного налогового откупа в обмен на однократные платежи в моменты бюджетного кризиса. Откупщики налогов, пользуясь прочностью своих позиций, смогли вступить в союз с купцами и землевладельцами (в особенности с теми, кому они переуступили или продали право на откуп налогов), создав то, что Барки называет «режимами регионального управления» (regional governance regimes), которые были крайне стойки к усилиям султанов стравить элиты друг с другом, а стало быть, позволяли налоговым откупщикам сохранять больше своих доходов. Это ужесточило бюджетный кризис, а также обеспечило базис для возникновения в периферийных районах (особенно на Балканах) требований автономии и независимости. Добиваться автономии стало легче, так как купцы империи смогли наладить связь с капиталистами в эволюционирующей миросистеме, базирующейся в Европе. Проделав эту работу, Барки получает возможность точно обозначить роль капитализма и соответствующей миросистемы в крушении Османской империи.
Используемый Барки способ анализа и предпринятая ею попытка точно указать, каким образом этнический фактор и национализм сказались на Османской империи, служат для нее и других исследователей (Barkey and von Hagen, 2008) своеобразным шаблоном, который может быть использован для анализа гибели не только Османской империи, но и империи Габсбургов, Российской и Советской империй. Эта работа создает основу для отслеживания долгосрочного влияния империй и колониализма на формирование государства. К государствам мы и перейдем в следующей главе.
ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВА
За несколько минувших столетий государства реорганизовали глобальный ландшафт власти. Империи распались на национальные государства. Власть, некогда децентрализованная и находившаяся в руках родственных групп, племен, городов-государств, корпоративных образований, церквей и других взаимопересекающихся, конкурирующих структур, сконцентрировалась в государствах, заявляющих о своей монополии на насилие (и все более способных осуществлять ее), а также на законное отправление власти внутри международно признанных границ. Одновременно с изъятием государствами власти у соперничающих с ними структур стало увеличиваться число ресурсов, которые государства требовали от своих подданных (налоги, военная служба, обязательное школьное образование, подчинение растущему ряду законов и правил), причем стал удлиняться и перечень прав, на государственное предоставление которых смогли претендовать граждане (избирательные права, юридическое равенство, социальные пособия, образование, защита от природных и антропогенных катастроф и т. д.).
Главная трудность, с которой сталкиваются исторические социологи, состоит не в прослеживании или документировании изменений, со временем происходящих с государственным потенциалом и обязательствами государства, и не в указании конкретных различий между государствами. Сложность состоит, скорее, в выявлении причинно-следственных отношений. Образование и трансформация государств происходили в то же самое время, когда господствующим способом производства стал капитализм и когда семейные и общинные структуры, закономерные особенности демографии и расселения людей, технология и идеология — все эти реалии претерпели фундаментальные трансформации. Каким образом исторические социологи распутывают этот клубок взаимопересекающихся и взаимосвязанных изменений? Как они устанавливают причинную связь? Когда уместнее заниматься отдельно взятым случаем с привлечением теоретических средств, а когда необходимы межстрановые и/или межвременные сравнения?
Мы не пытаемся предложить в этой главе обзор обширной литературы, которая рассматривает различные стороны процесса образования и развития государств. (Обзор этих дебатов, а также мои оценки того, какие ответы наиболее убедительны и какие направления исследовательской деятельности наиболее плодотворны, представлены в моей книге «Государства и власть» [Lachmann, 2010]). Напротив, в этой главе внимание будет сосредоточено на нескольких самых впечатляющих трактовках двух проблем: 1) образование государства и 2) возникновение и консолидация тех или иных систем социальных пособий и льгот — для того, чтобы выявить наиболее продуктивные способы решения вопросов исторической причинности.
Образование государстваКак мы заметили выше, образование государства пришлось на тот же период, что и развитие капитализма. Как соотносятся две эти трансформации с точки зрения причинно-следственной связи? Во второй главе мы видели, что Перри Андерсон (Anderson, 1974; Андерсон, 2010) пользовался межстрановыми сравнениями, чтобы обосновать тезис о том, что связью между ними был правящий класс каждой эпохи. Во-первых, феодальный правящий класс образовал абсолютистские государства, чтобы решить свои трудности, связанные с контролем над крестьянами после эпидемии черной смерти. Потом абсолютистские государства Западной — но не Восточной — Европы содействовали формированию нового буржуазного класса. Потом буржуазией были устроены революции, свергнувшие абсолютизм в пользу новых, буржуазных государств, которые продвигали капиталистическое развитие и способствовали росту буржуазии[12]. Таким образом, с точки зрения Андерсона, причинным звеном, связывающим образование государства и переход к капитализму, являются классовые акторы, причем каждый причинный шаг приходится либо на момент, когда образуется некий новый класс, либо на момент, когда существующий класс усваивает новый способ классовой борьбы.
Анализ Андерсона изящен, ведь, чтобы объяснить все имеющиеся итоги, Андерсон выявляет некий последовательно воспроизводящийся механизм (классовый конфликт) и некий устойчивый набор акторов (классы), тем самым воедино связывая образование государства и капиталистическое развитие. К сожалению, как мы видели во второй главе, модель Андерсона страдает от того, что он не способен объяснить, как результатом схожих абсолютистских государств и классового конфликта стало то, что буржуазная революция в Англии на полтора столетия опередила революцию во Франции. Не может он осветить и вопрос появления у постреволюционных государств различий, различий масштаба и темпа капиталистического развития в этих двух странах — слабости, вскрытые посредством его межстрановых сравнений.
Чарльз Тилли также выявляет некий устойчивый набор акторов, являющихся действующими силами изменения как в экономической, так и в политической сфере. В противоположность Андерсону, ключевые акторы у Тилли — это не классы, а элиты, контролирующие государство. На взгляд Тилли, в догосударственной Европе (и более того — везде в мире) власть была рассредоточена, находясь в руках дворян, представителей духовенства и других лиц, под чьим началом состояли мелкие и взаимопересекающиеся политические формирования. Начав данный процесс пятьсот лет назад в Европе, некоторые из этих носителей власти ухитрились мобилизовать ресурсы, необходимые для нападения, разгрома и инкорпорирования соперничающих с ними элит, тем самым объединив к 1990 году «около 500 государств, потенциальных государств, небольших государств и государственно-подобных образований» в «25–28 государств» (Tilly, 1990, р. 42–3 and passim; Тилли, 2009, с. 77–78 и далее).
Государственным элитам для контроля над их расширяющимися территориями нужны были вооруженные люди и бюрократы. Тилли приводит довод, что
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.