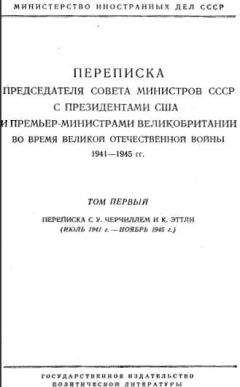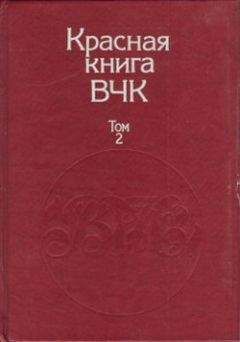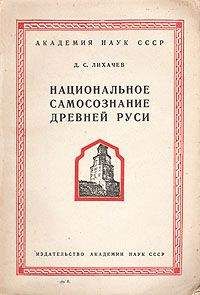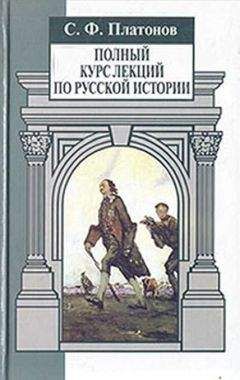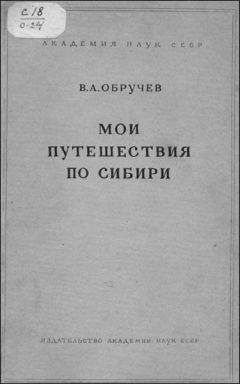Игнатий Крачковский - Над арабскими рукописями Страница 23
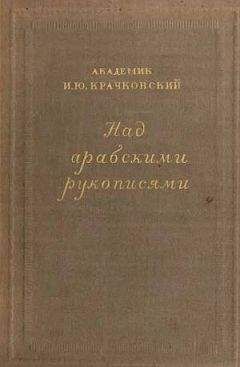
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Игнатий Крачковский
- Год выпуска: неизвестен
- ISBN: нет данных
- Издательство: неизвестно
- Страниц: 45
- Добавлено: 2019-02-10 10:18:39
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Игнатий Крачковский - Над арабскими рукописями краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Игнатий Крачковский - Над арабскими рукописями» бесплатно полную версию:Игнатий Юлианович Крачковский (4 (16) марта 1883, Вильна – 24 января 1951, Ленинград) – советский арабист, академик АН СССР (с 1921). Один из создателей школы советской арабистики.Игнатий Юлианович родился в семье директора Учительского института в городе Вильно Юлиана Крачковского. Уже в детские годы проявлял интерес к восточным культурам, самостоятельно изучал восточные языки.С 1901 по 1905 годы обучался на факультете восточных языков Петербургского университета и закончил там курс арабско-персидско-турецко-татарского.И.Ю. Крачковский руководил Русским географическим обществом и Институтом востоковедения.ДостиженияПеревёл на русский язык Коран.Автор более 450 опубликованных трудов.Стал редактором первого полного издания «1001 ночи» на русском языке.Главные труды: «Поэтическое творчество Абу-л-Атахии» («Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества», т. XVIII); «Arabica» («Византийский Временник», т. XIII—XIV); «Мутанабби и Абу-л-Ала» («Записки Восточного Отделения», т. XIX); «Новозаветный апокриф в арабской рукописи» («Византийское Время», т. XIV); «Восточный факультет университета святого Иосифа в Бейруте» («Журнал Министерства Народного Просвещения», 1910); «Легенда о святом Георгии Победоносце в арабской редакции» («Живая Старина», т. XIX); «Поэт корейшитской плеяды» («Записки Восточного Отделения», т. ХХ); «Исторический роман в современной арабской литературе» («Журнал Министерства Народного Просвещения», 1911); «Abu-Hanifa ad-Dinaweri» (Лейден, 1912); «Хамаса Бухтури и ее первый исследователь в Европе» («Записки Восточного Отделения», т. XXI); «Из эфиопской географической литературы» («Христианский Восток», т. I); «Из арабской печати Египта» («Мир Ислама», т. I); «К описанию рукописей Ибн-Тайфура и ас-Сули» («Записки Восточного Отделения» т. XXI); «Одна из мелькитских версий арабского синаксаря» («Христианский Восток», т. II); «Арабские рукописи городской библиотеки в Александрии» («Записки Восточного Отделения», т. XXII) «Абу-л-Фарадж ал-Вава Дамасский. Материалы для характеристики поэтического творчества» (Петроград, 1914).Основополагающие сочинения Крачковского по новоарабской литературе и истории арабской культуры конца XIX – начала XX века положили начало исследованиям в данной области как в СССР, так и европейских и арабских странах.Автобиографическая книга Игнатия Юлиановича «Над арабскими рукописями» (1949) была переведена на ряд иностранных языков, в том числе арабский, и удостоена Сталинской премии (1951).Труд Крачковского «История географической литературы у арабов» был издан Лигой арабских государств в 1963 году.Был награжден двумя орденами Ленина.
Игнатий Крачковский - Над арабскими рукописями читать онлайн бесплатно
Труженик незаметный и немного странный, во времена моего студенчества единственно он решал библиографические недоумения относительно восточных изданий, а позже, когда я познакомился с рукописями университетской библиотеки, я опять обнаружил карточки, написанные его рукой. Умер он в 30-х годах, разбитый параличом и забытый всеми, кроме одного-двух сослуживцев – современников.
Переход мой из студенческого читального зала в профессорский, расположенный в том же этаже, во окнами в сад, рядом с комнатой для выдачи книг, где находились „студенческие окна“, произошел в январе 1906 года не без некоторого курьеза.
Государственные экзамены я сдал в декабре 1905 года; В.Р. Розен мне говорил, что мое оставление при университете решено и я буду зачислен с 1 января. Однако официальное постановление об этом должно было состояться на заседании факультета только в середине января. С первого моего появления в библиотеке 2 января возник формальный вопрос, по какой карточке я должен получать книги – студенческой или профессорской, как все оставленные. Крейсберг был тогда уже безнадежно болен и его заменял старший библиотекарь М.И. Кудряшев, фигура тоже во многих отношениях замечательная; к нему мы еще студентами присмотрелись, так как он часто появлялся у „окон“, помогая младшим библиотекарям в часы особого наплыва. Меня опять провели к директорскому столу, за которым теперь помещалась маленькая фигура М.И. Кудряшева. Оглядев меня поверх свисавшего пенсне, он обычным густым басом строго спросил: „Вы кто? Студент?“ – „Нет, – ответил я, – я только что в декабре кончил экзамены“. „Кто же вы? Значит оставленный?“ И на это я, несколько смущенный, должен был ответить отрицательно, разъяснив, что мое „оставление“, по-видимому, решено, но заседания факультета еще не было. На минуту задумавшись, но по-прежнему строго М.И. Кудряшев резюмировал краткий разговор: „Значит, вы – никто! Берите книги на мое имя“. Так просто формальные препятствия были преодолены, и я водворился в профессорском читальном зале, нисколько не страдая от того, что я – „никто“. Через какой-нибудь месяц мое „оставление“ было уже утверждено министерством.
Началась вторая стадия занятий в библиотеке. Теперь я мог сам рыться в каталогах, мог ходить по всему помещению и сам доставать книги в неограниченном количестве. Часто приходилось мне спускаться вниз в восточный отдел. Постепенно я приобрел расположение «оптимиста» Ивана, когда он увидел, что я не только готовлюсь к магистерскому экзамену, но и думаю о диссертации.
Начавшиеся занятия с В.Р. Розеном заставили меня обложиться арабскими национальными словарями: и 10-томный „Тадж аль-арус“ (Корона невесты) и 20-томный „Лисан аль-араб“ (Язык арабов) теперь всегда находились у меня под руками. Для последнего Иван даже достал откуда-то особую этажерку на колесиках, когда увидел, что на столе не хватает места для груды громоздившихся книг. Трудно было мне на первых порах справляться с этими фолиантами: чуть не пять дней иногда уходило на то, чтобы подготовить сколько-нибудь удовлетворительно хоть двадцать стихов для очередного понедельника у Розена. А книги, такие теперь близкие, влекли и в другие стороны: по молодости мне хотелось перечитать все, относящееся к арабистике, в специальных журналах со времени их основания. С жадностью я просматривал и прочитывал десятки томов всяких периодических изданий, полностью представленных тогда в библиотеке. Скоро я увидел, что со всей массой мне не справиться, и стал ограничиваться систематическим изучением только работ по арабской поэзии, а все прочее заносил в свою разраставшуюся библиографию. Я просиживал целые дин в библиотеке, не только утром, но и вечером, когда не было занятий у Розена. Теперь все библиотекари присмотрелись ко мне, я сам знал всех и как-то незаметно превратился в неотъемлемую часть библиотеки, связанную со всеми ее интересами.
После смерти А.Р. Крейсберга директором стал, естественно, М.И. Кудряшев, его долголетний помощник и выученик по библиотечной части, начавший вру русских директоров. С первого взгляда он производил немного комичное впечатление: маленького роста с большой головой, украшенной довольно небрежной шевелюрой, постоянно ловивший неизменно падавшее пенсне на широком шнурке. Он говорил всегда серьезно низким басом, но в глазах часто светился огонек природного юмора и трудно было понять, не напускает ли он на себя серьезность. Человек добрый и мягкий, он все же сумел поддержать в библиотеке порядок, по заветам Залемана и Крейсберга. Старый холостяк, совсем одинокий, он не знал других привязанностей, кроме библиотеки. Еще задолго до того, как понадобились ночные дежурства, он часто оставался в помещении, на всю ночь, проводя ее не раздеваясь в третьем этаже на стоявшей в уголке среди шкафов маленькой кушетке, которая и годилась, кажется, только для его роста. В такие вечера разрешалось мне заниматься в библиотеке сколько угодно, так как выпускал меня и запирал дверь сам М.И. Кудряшев, оставаясь до утра. Сколько мы переговорили с ним но ночам на всякие темы и о библиотеке, и о науке, и о самых разнообразных сюжетах, особенно впоследствии, в годы разрухи, когда от холода и голода, казалось, вся жизнь начала замирать. И сам он умер от истощения, как-то незаметно, не жалуясь и страдая только за библиотеку и служащих, многие из которых гибли на его глазах от той же причины.
В науке, как и С.В. Ларионов, он был неудачник. Один из близких учеников создателя исторической поэтики А.Н. Веселовского, М.И. Кудряшев в студенческие годы дал ряд лучших изданий читанных им курсов, в молодости перевел размером подлинника «Песнь о Нибелунгах» – большой и серьезный труд, не столько талантливый, сколько добросовестный, по заслугам отмеченный премией Академии Наук. Библиотека рано его засосала, и к своей специальности он больше не возвращался; может быть, и страсть к вину сделала свое дело, хоть надо сказать, что сильнее она замечалась до назначения его директором.
Его преемником, правда не надолго, стал очень хороший библиотекарь, совершенно не пригодный к роли администратора, И.П. Мурзин. Он только курса на три был старше меня по университету, и я хорошо помню его студентом немноголюдного классического отделения историко-филологического факультета. Товарищами его были составившие себе впоследствии солидное имя в науке историк древнего мира поляк К.В. Хилинский и знаток греческой литературы И.И. Толстой. И.П. Мурзин как-то мало менялся, если не считать, что вместо серой студенческой тужурки на нем появился достаточно неуклюжий и изношенный штатский костюм. И смолоду он выглядел старообразным: маленький, мешковатый, всегда с растрепанными волосами, очень близорукий; в библиотеке, куда он поступил сразу же по окончании университетского курса, он производил впечатление какого-то гнома Иногда для ускорения он пускался бежать по библиотечным комнатам вприпрыжку. Знавшие его не удивлялись, но студенты в длинном университетском коридоре с недоумением останавливались при этом странном зрелище, когда он и там показывал свою рысь. Закончив работу в университете, он отправлялся на вечернюю службу в библиотеку Географического общества, где скоро занял место заведующего. В специальной, сравнительно небольшой библиотеке со штатом служащих в два-три человека, он был вполне на месте, и его очень ценил председатель Общества, известный географ Ю.М. Шокальский. Очутившись по случайному поводу, как старший библиотекарь за отказом других, директором университетской библиотеки, да еще вдобавок в очень трудные годы, он точно растерялся и не мог удержать твердой рукой довольно громоздкой и большой машины. Служащие его по-своему любили, но всегда смотрели на него с какой-то усмешкой; никаким авторитетом он не пользовался ни в библиотеке, ни вне ее. Он и сам чувствовал это и при первой возможности постарался отказаться от мало подходящего для него поста и опять стал незаметным, но необходимым библиотекарем и в университете и в Обществе..
Так он и завершил свою жизнь в 1939 году, несколько пострадав под конец от легкого паралича. Вне библиотеки его трудно было бы представить, да и сам он не мог бы жить без нее. Смолоду его еще обуревали разные мечтания: то он хотел идти в священники, то задумывал стать сельским учителем. Но все это были мечтания в стиле некоторых чеховских героев, и, конечно, никуда из библиотеки он бы не ушел, даже при возможности это сделать. Научные порывы его не тревожили, но вынесенной из университета латыни он не позабыл: его изредка приглашали для преподавания ее медикам и ботаникам. При случае он мог составить латинский адрес на какой-нибудь юбилей или побеседовать по-латыни, чаще всего с профессором-классиком А.И. Малеиным. Впрочем, и в самой библиотеке у него находился собеседник в лице Бронислава Игнатьевича Эпимаха-Шипилло, последнего „старшего библиотекаря“, которого я помню со студенческих лет.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.