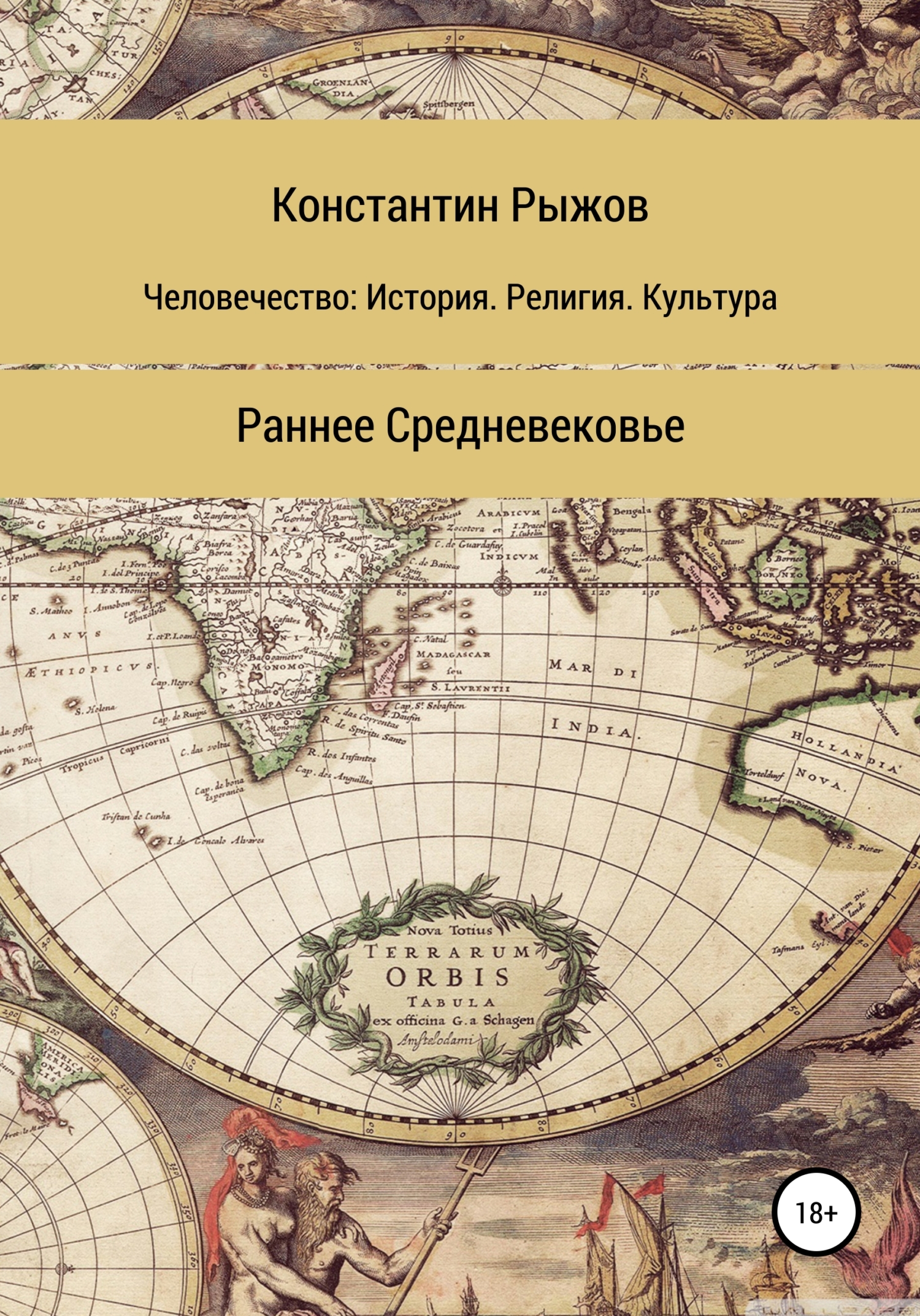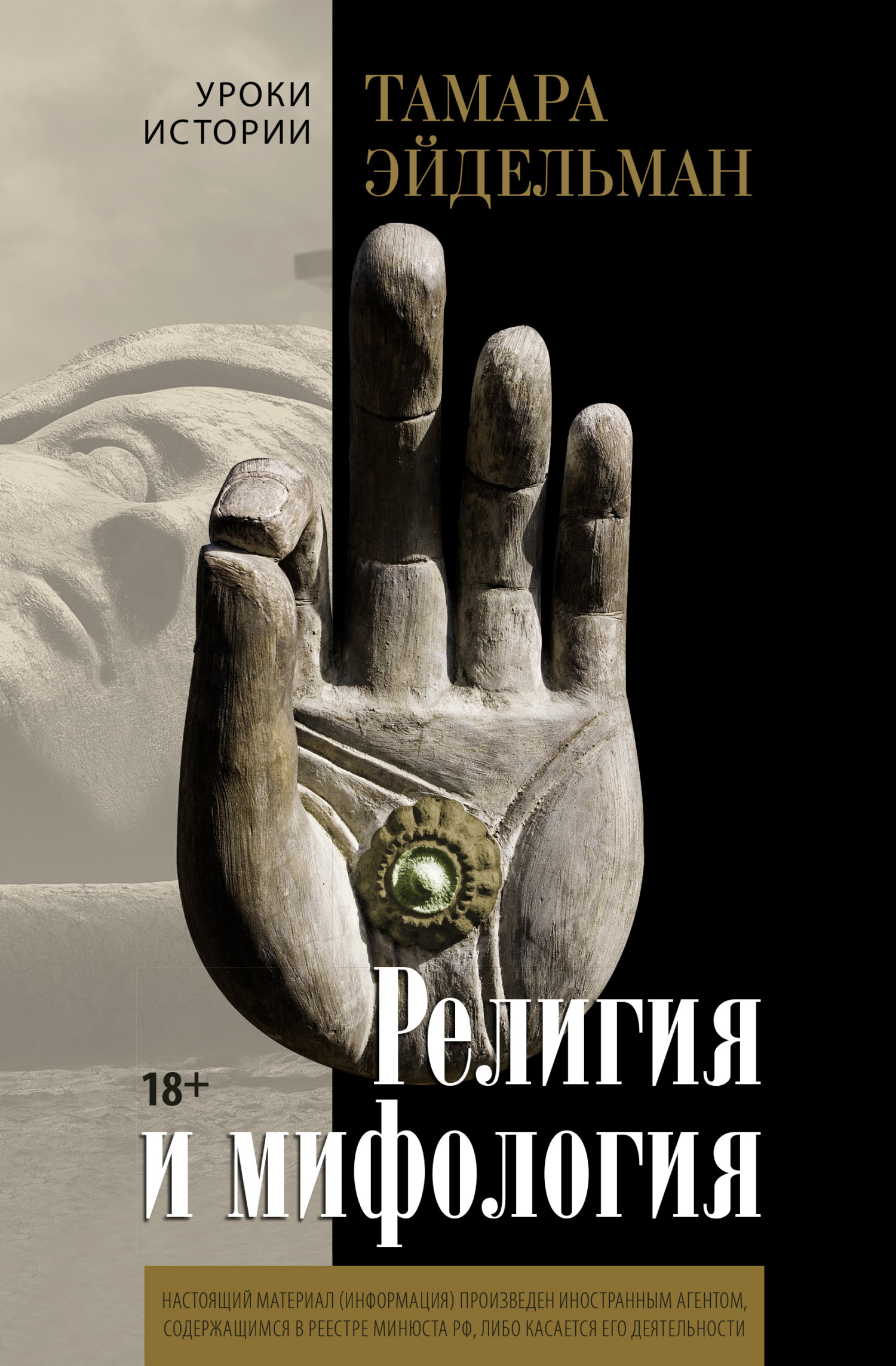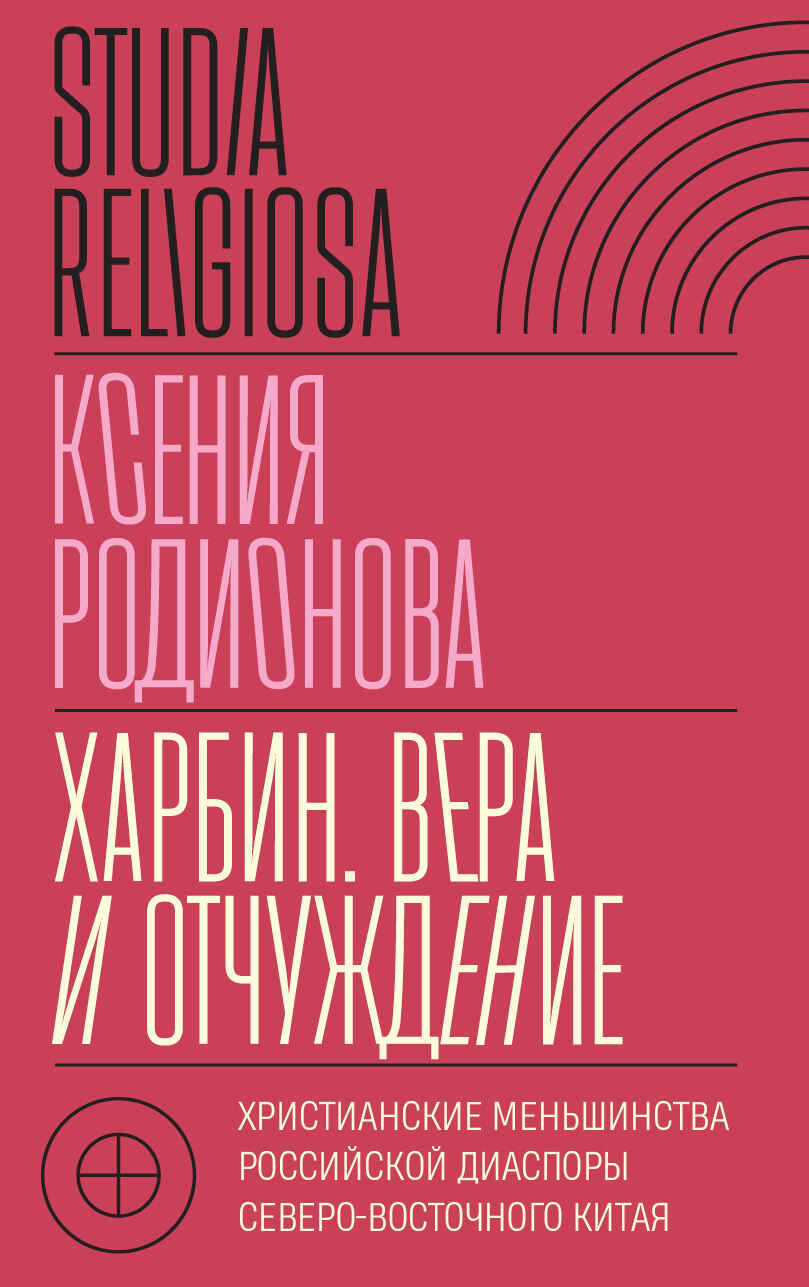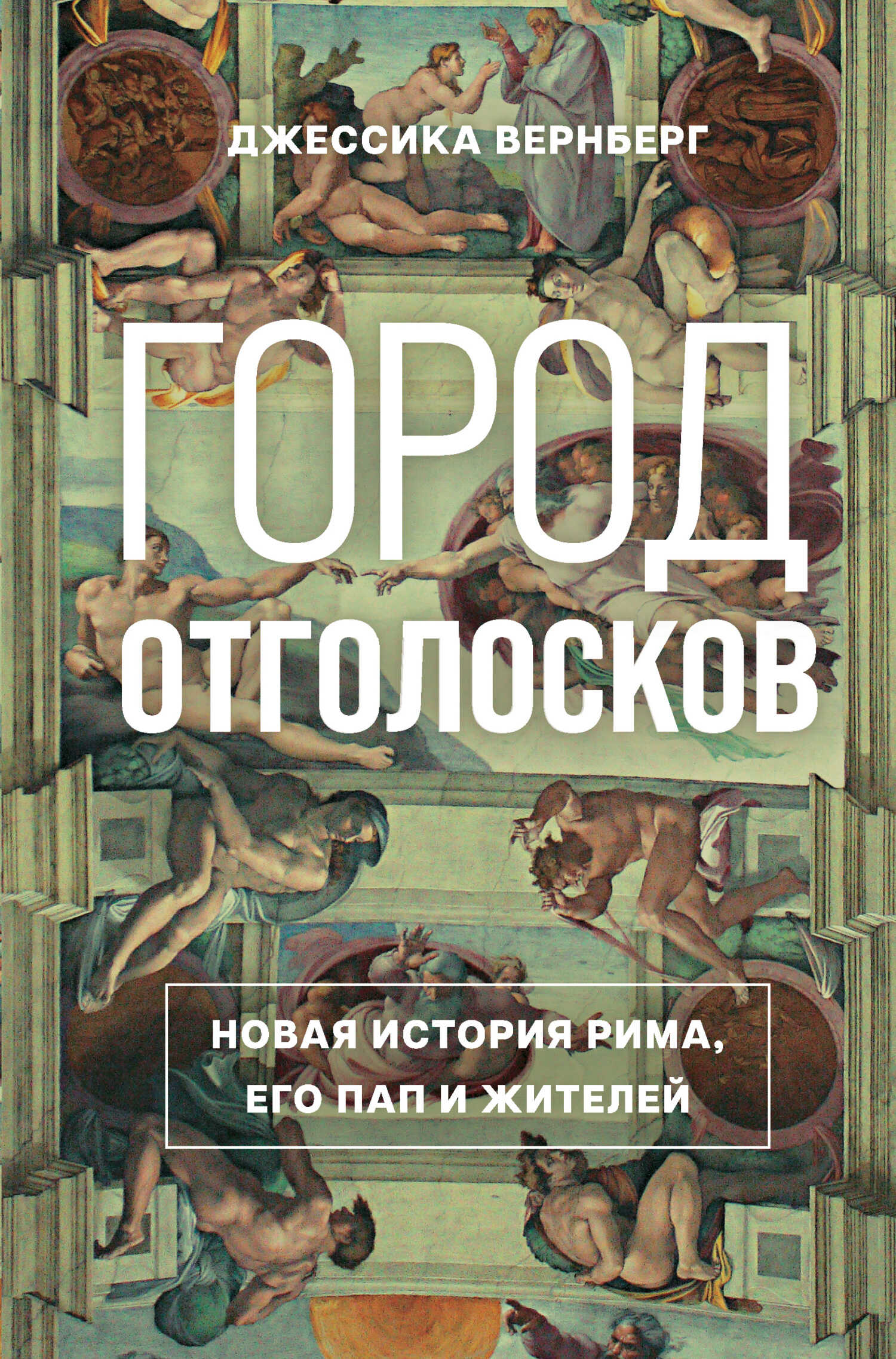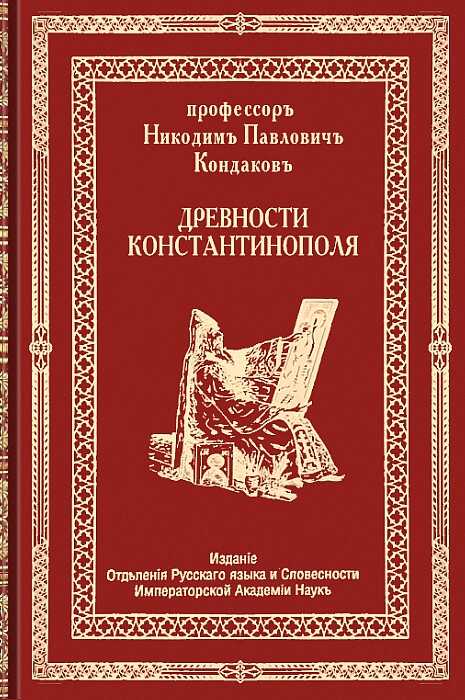Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко Страница 22
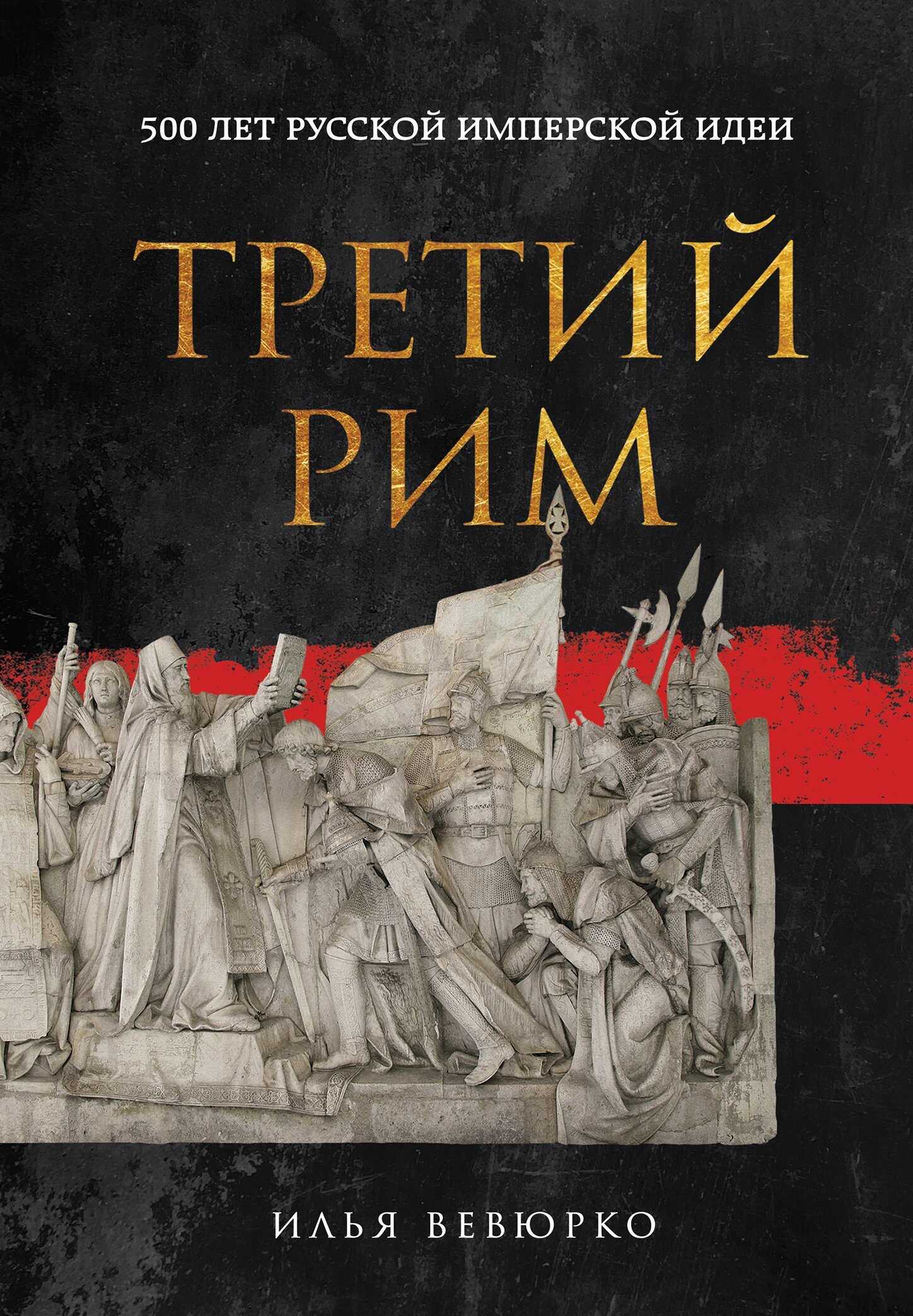
- Категория: Научные и научно-популярные книги / История
- Автор: Илья Сергеевич Вевюрко
- Страниц: 64
- Добавлено: 2025-05-05 23:20:56
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко» бесплатно полную версию:Книга именитого религиоведа и философа Ильи Вевюрко – взвешенное рассуждение о русском пути и церкви, о древнерусском рецепте величия и праве Руси претендовать на римское имперское наследие.
О том, как известный постулат старца Филофея «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать», касается нас сегодняшних.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи - Илья Сергеевич Вевюрко читать онлайн бесплатно
(Лже)патриарх Игнатий. Миниатюра из «Царского титулярника»
Характерен спор между патриархом Гермогеном и москвичами по поводу первой попытки низложения избранного боярством царя Василия Шуйского. Патриарх говорит, что «царское поставление Божий жребий есть, кому хощет, тому дает, Господня бо есть земля и концы ея, и без Божия веления ничто не бывает». Восставшие отвечают, что царь поступает незаконно: «Побивает де и в воду сажает братию нашу дворян, и детей боярских, и жены их». Этого аргумента святитель не отводит, но спрашивает об именах пострадавших. Поскольку имен ему не называют, он делает вывод, что восставшие клевещут на Шуйского. Тогда они приводят два других довода, зачитывая их из грамоты, присланной «ко всему миру из литовских полков, от русских людей». Во-первых, «Василья Шуйского одною Москвою выбрали на царство, а иные де городы того не ведают». Во-вторых, «его де для кровь льется, и земля не умирится». Патриарх отвечает на это ссылкой на «мир» со своей стороны: «Немногими людми возстали на царя, хотите его без вины с царства свесть, а мир того не хочет да и не ведает… и православным християном Московского царства не хотети сего». Полномочия царя, таким образом, обеими сторонами ставятся в некоторую связь с исполнением им закона и с волей «мира». Гермоген далее пишет по городам, «что напрасно [т. е. без вины], и без боярского ведома, и с нами не поговоря, и без совету людей всех чинов, и без ведома всех православных християн Московского царства, напрасно были возстали на государя». В тот раз, однако, заговорщики не преуспели: «маломощна бо есть крепость земнородных, Бог же великомощен, и кто убо может противитися силе Его? понеже Той един владеет царством человеческим и ему же хощет, дает его». В связи с этим патриарх призывает людей к покаянию и говорит о себе и духовенстве: «а мы воистину тому рады, чтоб вы не пропали вовеки, и должни о вас Бога молити, и государю о ваших винах бити челом». Церковь ходатайствует о людях, подавая царю повод к смягчению наказания: осуществляет право «печалования», которое будет утрачено ею при Петре Великом.
Когда мы перейдем к зрелому Новому времени, мы увидим, что критерий православности монарха останется единственным условием его легитимности. Он сократится до лояльности самого царя к православию, никто уже не осмелится при любом маскараде сказать, что «не узнает царя православного в одежде странной и в делах царства», как и начертывать ему руководства ко справедливому правлению. Тем не менее это будет все еще православная монархия; восприятие России как Третьего Рима, с римской терминологией или без, на уровне символов и по существу сохранится. По умолчанию все до какого-то времени будут считать, что явное прикосновение к «голове помазанника», равно и попрание самим помазанником духовных устоев Церкви, грозит народным движением непредсказуемого размаха. Эта угроза будет сплачивать вокруг престола и алтаря все те сословные силы, которые уже начнут мало-помалу претендовать на то, чтобы стать «обществом». И я больше всего хотел бы в заключение этой части главы рассмотреть человека, который незримо, во множестве человеческих ипостасей пронизывая собою все сословия, составлял основу этого всенародного монархического сознания.
Пожалуй, как эстетический тип он описан в «Капитанской дочке» Пушкина. Но там у читателя может возникнуть (неверное, впрочем) впечатление, что у этого героя идей кроме чести никаких нет. Между тем честь для него и не идея вовсе, а инстинктивный эстетический канон, сама стать человеческого бытия. Над честью не рефлексируют, потому как она вынуждает ко мгновенной реакции при всяком случае, когда затронута; если реакция запоздала, то рефлексировать уже поздно и ни к чему. Герой Пушкина, несомненно, христианин, и в этом позднем произведении даже прославляется такая пренебрегаемая формальной лояльностью к христианству добродетель, как целомудрие – оно здесь то же, что честь. А потому можно говорить о том, что христианство героя, хотя и поверхностное по уровню знаний, во всяком случае, не формальное.
О чем думает христианин, когда думает о государстве, и что ему от него нужно? Прежде всего нельзя упускать из виду, что государство, которому велят подчиняться и за которое велят молиться апостолы, было еще языческим. Цель молитвы «за царя и за всех, иже во власти суть – да тихое и безмолвное житие поживем во всяцем благочестии и чистоте» (1 Тимофею 2:2). «Безмолвное» значит «без волнения», то есть без излишнего попечения о земных нуждах. По словам святого Иоанна Златоуста, «это вовсе не есть ласкательство, а делается по требованию справедливости», так как государство поддерживается самоотверженным служением, и нечестно было бы пользоваться его благами, не отдавая ничего взамен. Однако вместе с тем христианин не живет иллюзиями языческого государства. Если в Риме эпохи апостолов ожидали Золотого Века, то апостол предупреждает в это же время: «Когда будут говорить “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба» (1 Солунянам 5:3). Христианин остается идейно автономным от государства, он только воздает «всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» (Римлянам 13:7).
Отсюда получается, что служение государству со стороны христианина – это участие в промысле, который понятен ему только в самом общем виде, а именно в плане обеспечения порядка, доколе Богу это угодно. Служа кесарю как «удерживающему», который «удерживает» антихриста по той вовсе небезупречной причине, что сам считает себя божеством, христианин не может делать этого
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.