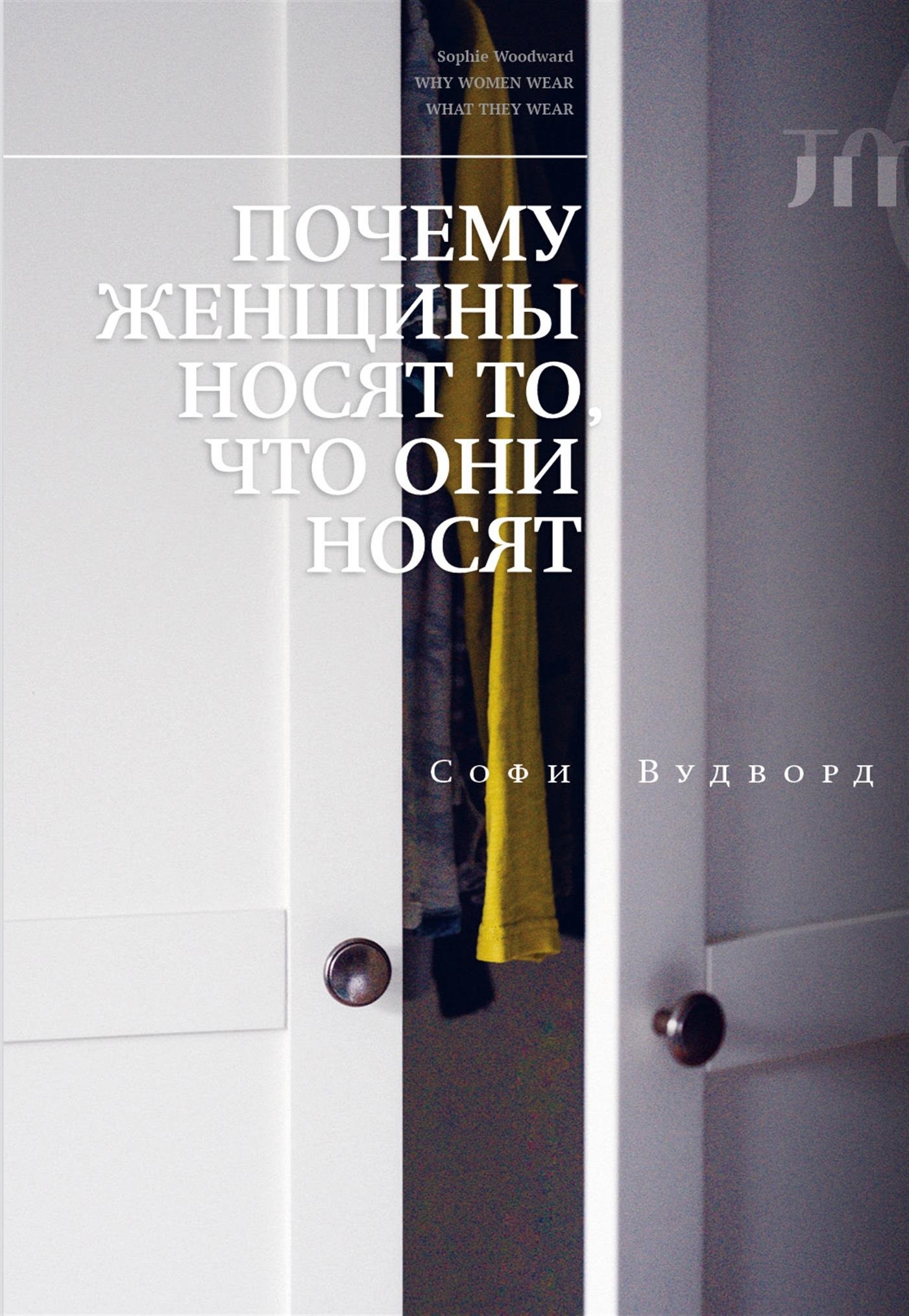Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик Страница 15

- Категория: Домоводство, Дом и семья / Прочее домоводство
- Автор: Линор Горалик
- Страниц: 114
- Добавлено: 2025-07-04 11:56:23
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик» бесплатно полную версию:*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИЕЙ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА), ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИИ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА).
В книге Линор Горалик собраны ее развернутые эссе, созданные за последние двадцать лет и опубликованные преимущественно в журнале «Теория моды: одежда, тело, культура». Автор не раз подчеркивала, что занятия теорией и историей костюма (ключевые интересующие ее темы – «современный костюм и идентичность» и «костюм в периоды кризиса») плотно связаны с аналогичной работой, проводимой ею в своем художественном творчестве. Речь идет об исследовании индивидуального опыта проживания ситуаций внутреннего вызова, порожденного напряженными внешними обстоятельствами. Эссе, вошедшие в эту книгу, демонстрируют не только примеры этой работы, но и обращения автора к темам трансгрессии, этники, социального искусства, лидерства, болезни и больничного пространства. Сборник делится на три части: в первую («Мальчик в кофточке с пуговицами») вошли тексты, посвященные вестиментарным практикам позднесоветского периода и постсоветской эмиграции; второй раздел («Шляпу можешь не снимать») посвящен бытованию одежды в различных смысловым контекстах – от антуража fashion-съемок до современного эротического костюма; третью часть («Но ты, моя любовь, – ты не такая!») составляют эссе о важных трендах современной культуры – от карантинных практик, связанных с телом, до ностальгии по СССР в брендинге продуктов питания. Линор Горалик – прозаик, поэтесса и журналистка, автор вышедших в издательстве «Новое литературное обозрение» книг «Имени такого-то» и «Тетрадь Катерины Суворовой».
Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - Линор Горалик читать онлайн бесплатно
Казалось бы, такая бедность фантазийного мира входит в противоречие с идеей о мечте как необходимом стимуле для выработки принципиально нового языка, но, к счастью, наряду с микрофантазиями существовали и макромечты: мечты о костюме как способе бытовать в ином, более ярком и разнообразном мире, сама возможность существования которого в 1990 году казалась совершенно неочевидной: «…роскошный пеньюар, какие-то красивые платки на голову, как в кино, элегантную одежду для ресторана – прямо какие-то глупости»; «Хотела, как ни странно, деловых костюмов (куда бы я их носила?)»; «…хотелось какой-то „правильной“ классики. Чтобы было в гардеробе маленькое черное платье». Здесь, в отличие от микрофантазий, костюм, по-видимости, играет вторичную роль, является всего лишь атрибутом фантазии об определенной жизненной ситуации, то есть макромечты: «…я мечтал стать богатым злодеем, командиром шайки головорезов, при этом ездить на дорогой машине».
Пожалуй, едва ли не единственной точкой, в которой макро- и микрофантазии опрошенных сходились, оказывалось понятие «настоящей вещи» применительно к носильным вещам и аксессуарам. Это слово повторяется в ответах десятки раз, на письме оно нередко выделяется заглавными буквами, в разговорной речи произносится с крайне интенсивной интонацией, иногда – с усиливающим повторением: «Джинсы были не настоящие, а польские»; «…у меня мечтой был <…> настоящий качественный трикотаж…»; «Хотелось настоящие, НАСТОЯЩИЕ нормальные ботинки…». Смысл «настоящего» в многочисленных высказываниях респондентов раскрывает двойственность тогдашней ситуации с одеждой: с одной стороны, «настоящее» фигурирует тут как антоним «поддельного» – изготовленного кооператорами или сшитого собственноручно; с другой стороны, «настоящее» – это, насколько можно судить, принадлежащее к иной, «настоящей» жизни («настоящий трикотаж», «настоящие ботинки»), то есть к жизни, где вещь, предназначенная для носки, качеством и видом оправдывает свое назначение и соответствует ему. Даже те, кто шил вещи сам и был доволен полученными результатами, часто чувствовали, что эти вещи не соответствуют критерию «настоящего» в силу невозможности достойно прожить весь положенный им цикл, полностью выразить исходный замысел в процессе превращения из «настоящего» сырья в элемент «настоящего» костюма: скажем, уже цитировавшийся мной респондент, много, хорошо и с удовольствием шивший и модифицировавший одежду в том году, пишет: «…но при этом постоянно угнетало то, что все это – конфетка из дерьма, а был бы шоколад, так, может, действительно конфетка бы получилась». Таким образом, к безусловному принятию импортного как хорошего в качестве ориентиров для создания нового языка костюма прибавлялось «настоящее»; множества «импортного» и «настоящего» в значительной степени пересекались, но не совпадали полностью. Не совпадающее с импортным подмножество «настоящего» оказалось очень важным – в нем поместились вещи тех, кто ориентировался не на «новое однообразие», а на «новое разнообразие»: на индивидуальность, вкус, творческий подход к костюму, не отменяемые бедностью. Именно из этих двух категорий – обладатели «импортного настоящего» и обладатели «индивидуального настоящего» – в тот год сложилась прослойка новых трендсеттеров, крайне важная для развития моды и особенно необходимая, системообразующая в обществе, где после распада старого языка костюма должна была сложиться принципиально новая система отношений между людьми и вещами.
Ранние идеи позднего большинства: моделирование нового языка костюма
Схема распространения инноваций в обществе, созданная Эвереттом Роджерсом[20], часто и эффективно используется для описания распространения модных трендов в процессе их жизненного цикла (ее можно оспаривать, особенно сегодня, но ей трудно отказать в популярности). Роджерс делит общество на пять категорий. Первыми идут «пионеры» (innovators) – дизайнеры, разработчики костюма, стилисты, создающие новые «слова», «выражения» или «интонации» в языке костюма. От них эти слова перенимают (и начинают «обкатывать на языке») так называемые «первопреемники» (early adopters) – люди с широким кругозором, чувствительные к переменам и внимательно относящиеся к собственному имиджу; обычно это публичные фигуры – представители богемных и политических элит и высших эшелонов бизнеса. Под влиянием первопреемников новый модный тренд переходит (не без видоизменений, связанных, скажем, с массовым производством, попыткой сделать предмет более доступным в финансовом плане или менее вызывающим – в плане коммуникативном) к «раннему большинству» – достаточно широкой прослойке общества, состоящей из людей социализированных, интересующихся новостями моды и готовых изменять свой костюм в соответствии с модой. После того как тренд подхвачен и растиражирован «ранним большинством», его перенимает «позднее большинство» – те, кто более традиционен в своих пристрастиях в одежде, кто меньше подвержен влиянию перемен моды и менее чувствителен к интонациям ее языка; обычно эти люди перенимают тренд постольку, поскольку необходимость купить новую одежду совпадает с присутствием тренда почти во всех предлагаемых на рынке коллекциях. Чаще всего финансовые возможности «позднего большинства» ограничены, и оно лишь частично ориентируется на мнение сколько-нибудь широкой группы о своем костюме. Наконец, уже практически отживший свое тренд, давно заброшенный и пионерами, и первопреемниками, и даже ранним большинством, докатывается до условного низа модной пирамиды – до «отстающих»: обычно это люди, относительно ограниченные в средствах, ориентирующиеся в большой мере на мнение непосредственно близкого окружения, не придающие своему костюму особого значения и в еще меньшей мере интересующиеся модой.
Подавляющее большинство потребителей в больших городах промышленно развитых стран (приблизительно 80%) относится, по теории Роджерса, к «позднему большинству» – то есть к тем, для кого костюм важен в значительной мере, но все-таки не является одним из главных ориентиров в построении собственного имиджа; к тем, кто ценит возможность одеваться в соответствии с желанием и настроением, не тратя на заботу о костюме лишних сил и размышлений, но при этом выглядеть современно и располагающе. Для «позднего большинства» «раннее большинство» и «первопреемники» являются важнейшими ориентирами в мире моды, даже если «позднее большинство» не признается себе в этом или не отдает себе в этом отчет; именно под их влиянием складывается интуитивное понимание того, что сейчас «носят». С «первопреемниками» моды представители «позднего большинства» обычно непосредственно не контактируют напрямую: этих людей они видят по телевизору, на страницах газет или на сценах концертных залов; они – своего рода «дальние трендсеттеры», их авторитет высок, но влияние лишено персонального оттенка; демонстрируемые ими ситуации зачастую тяжело примерить на себя, они существуют лишь в качестве глобальных ориентиров. Представители «раннего большинства», с другой стороны, обычно оказываются среди знакомых, близких или дальних, они нередко проживают ситуации, близкие твоим, что усиливает их влияние и их авторитет в качестве законодателей мод; можно сказать, что они служат «ближними трендсеттерами».
В разговоре о ближних ориентирах – то есть о тех, кто был однозначно (по ощущениям вспоминаемого 1990 года) хорошо одет и кому, если бы была возможность, хотелось подражать, – впечатляющее число респондентов описывает свое отношение к этим людям как «зависть». Причем вежливые оговорки, часто принятые при подобных высказываниях («белая зависть», «завидовать по-хорошему»), здесь часто не делаются,
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.