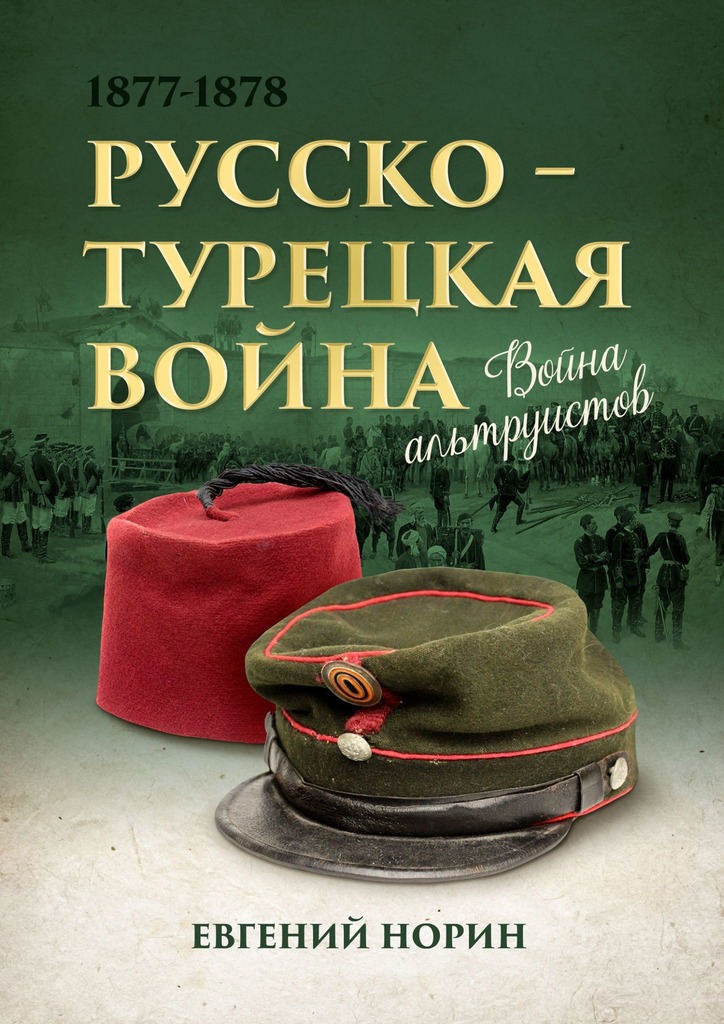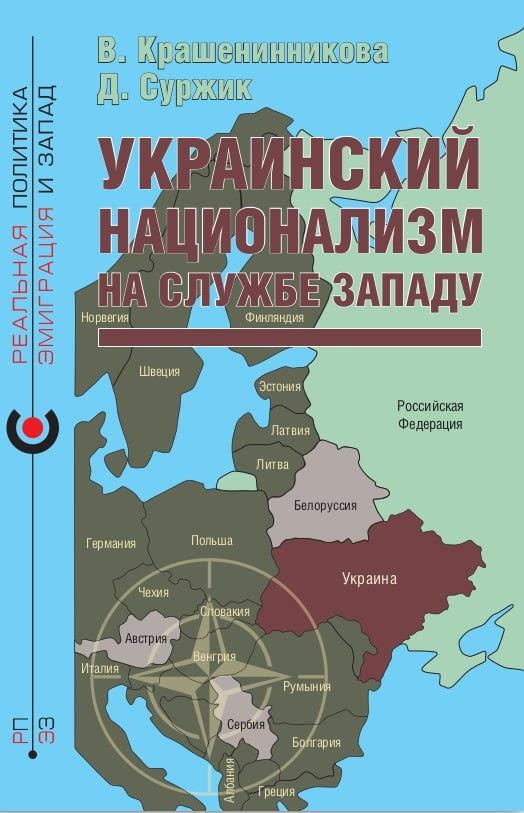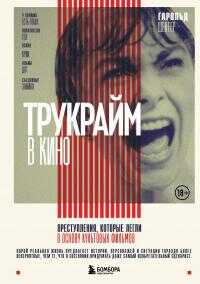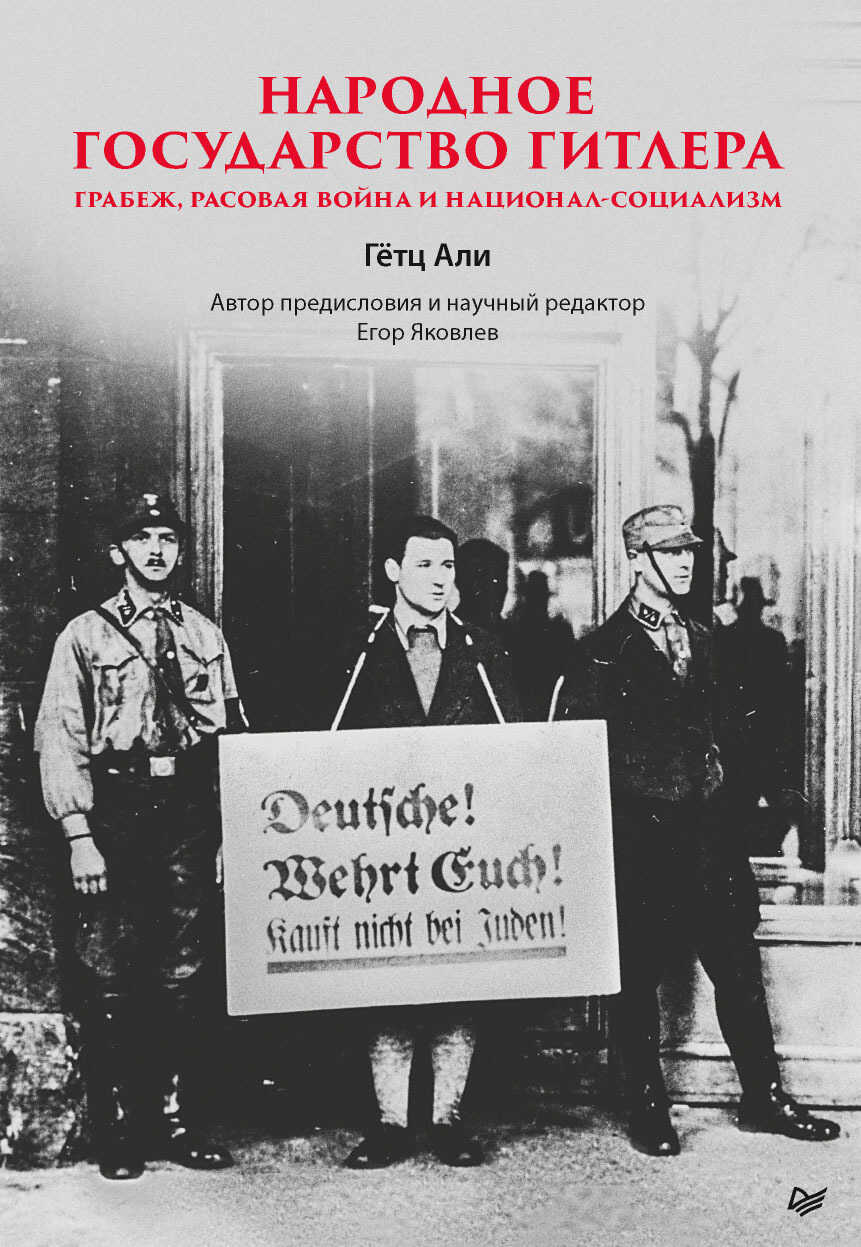Русский дневник. 1927–1928 - Альфред Барр Страница 5

- Категория: Документальные книги / Прочая документальная литература
- Автор: Альфред Барр
- Страниц: 35
- Добавлено: 2025-03-21 18:04:38
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Русский дневник. 1927–1928 - Альфред Барр краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Русский дневник. 1927–1928 - Альфред Барр» бесплатно полную версию:Зимой 1927–1928 года в Советском Союзе побывали двое молодых американских искусствоведов – Альфред Барр и Джери Эбботт. Вскоре по возвращении из поездки Барр стал директором новообразованного Музея современного искусства в Нью-Йорке, а Эбботт – его заместителем. Путешествуя по СССР, они вели дневники, где запечатлели культурную ситуацию накануне начала форсированного социалистического строительства и конца эпохи русского авангарда. Барр и Эбботт фиксировали свои впечатления от новинок театрального и кинематографического репертуара, осмотра музейных коллекций, национализованных новой властью, и встреч с крупными деятелями советской культуры: Сергеем Эйзенштейном и Всеволодом Мейерхольдом, Моисеем Гинзбургом и Сергеем Третьяковым, Александром Родченко и Варварой Степановой.
Русский дневник. 1927–1928 - Альфред Барр читать онлайн бесплатно
С О’К⟨аллаган⟩ и Даной в Новодевичий монастырь [55] – к сожалению, церковь была закрыта вместе со всеми важными памятниками и иконами. Но монастырь был прекрасен, вид старой церкви сквозь ворота – просто волшебный. Большинство надгробий – хуже западных. Хорошее у Чехова, а Скрябина мы не видели.
Потом мы предприняли освежающую прогулку на Ленинские горы и назад на автобусе через ⟨…⟩ – маленькую древнюю церковь около китайгородской (Chinese) стены. Священник впустил нас, но было слишком темно, чтобы разглядеть довольно второсортные иконы.
После обеда пошли с О’К⟨аллаган⟩ на «Ревизора» Гоголя (Inspector-General) в Театр Мейерхольда [56] – длинный, утомительный и весьма интересный вечер – с 7:30 до без десяти двенадцать. До спектакля нас провели за сцену, чтобы показать потрясающую машинерию: двойные пересекающиеся круги, на которых дополнительные наклонные сцены-платформы выезжали на сцену. Мы видели осветительную панель в торце театра, на которой сосредоточены все выключатели – вместо обычного разделения осветительских пультов между просцениумом, крыльями и задней стеной. Музей также был очень интересным, там выставлены великолепные макеты всех мейерхольдовских постановок. Мы послали ему свои карточки и получили приглашение на утро следующей среды – репетиция и интервью.
«Ревизор» – комедия о бюрократии в маленьком городке в 1860-х. Мэр и его… и так далее.
Мейерхольд объединил наиболее театральные элементы двух версий – ранней и поздней – пьесы Гоголя. Персонажи резко индивидуализированы, самозванец – фантастическая карикатура на модного молодого человека, который, когда пьян, верит в свою неподражаемую важность. (Жене Мейерхольда – которая играет главную женскую роль – уделяется слишком много внимания.)
Декорации очень интересны. Сцена организована а-ля Джотто, трапециевидная и наклонная, на ней – тщательно смоделированная довольно геометрическая мебель. Некоторые сцены, такие как сцена с чтением письма, были весьма людными – до сорока человек на сцене, так что они едва могли двигаться – по ощущению очень похоже на Роулендсона [57].
В итоге остается чувство потрясающей, обезоруживающей виртуозности и оригинальности постановки, но слишком много эпизодов, экстравагантности и развлечения. Перепады от моментального характерного реализма к шокирующему экспрессионизму очень неприятны. Сама сцена слишком мала и неудобна для визуального комфорта зрителей, не говоря о физическом комфорте актеров. И, в конце концов, как и многие вещи в России, пьеса слишком длинная и ей недостает сосредоточенности. Тем не менее это был самый захватывающий «театр» из всего, что я видел.
3 января
В ВОКСе, но обнаружил, что наши паспорта еще не готовы. Им удалось связаться с Эль Лисицким, архитектором и книжным дизайнером (в прошлом живописцем, «проунизм»). Поехали на троллейбусе вдоль реки на площадь Революции, около которой он жил в любопытном доме из необработанных бревен. Нас принимала его очаровательная немецкая жена [58]. Она показывала рисунки ее детей (которые учатся в Германии) и архитектурные проекты своего мужа. Они были потрясающе выполнены, с использованием миллиметровой бумаги, клейкой прозрачной бумаги, лака и прочего для достижения фактурных эффектов. Его чертежи предназначались для амбициозных общественных зданий огромной инженерной сложности – самая откровенно бумажная архитектура из всего, что я видел. Он также показывал много книг и фотографий, некоторые из них весьма изобретательные, напоминающие Мохой-Надя. Я спросил, пишет ли он картины. Он ответил, что он пишет, только когда ему нечем больше заняться, а этого никогда, никогда не бывает. Открытку Гропиуса Лисицкий принял хорошо. Видимо, он в дружеских отношениях с Баухаусом.
Мы чуть опоздали на встречу к О’К⟨аллаган⟩, с которой мы должны были встретиться с главой Государственного издательства, который одновременно был редактором «Кино», важного киножурнала (тираж 8000) [59]. Он немного говорил по-немецки и был очень весел – Джери дал кое-какие журналы о кино, а мне – ценное издание о живописи 1919 года, Татлин, Малевич и так далее [60]. Мы пили превосходный чай с пирожными. Он сказал, что подписка на периодику удвоилась за последний год, но журналы пока что печатаются в убыток, который, конечно, покрывает государство. Готовится множество технических энциклопедий. Новая общая энциклопедия дописана до буквы «Г». Тысячи новых читателей, крестьян и рабочих, которые до того никогда не читали, представляют большую проблему. Эта новая публика требует Джека Лондона (который невероятно популярен), Джеймса Оливера Кервуда и Берроуза, автора «Тарзана», и так далее.
Час спустя мы ушли от него с О’К⟨аллаган⟩ и Третьяковой на встречу с Родченко и его талантливой женой. Оба говорили только по-русски, но оба – блистательные, многогранные художники. Р⟨одченко⟩ показал нам ужасающее разнообразие всего: супрематистские картины (им предшествуют наиболее ранние геометрические вещи из всех, что я видел, – 1915 год, сделанные с помощью циркуля), гравюры на дереве, на линолеуме, плакаты, книжки, фотографии, кинодекорации и так далее и так далее. Он не писал картин с 1922 года, посвящая себя фотографическим искусствам, в которых он мастер. Жена Р⟨одченко⟩ – художественный редактор в «Кино». Когда я показал ей фильм миссис Саймон («Руки» Стеллы Саймон) [61], она очень заинтересовалась и попросила четыре кадра для публикации в статье. Будет неплохо получить за это гонорар в рублях (если таковой будет). Я договорился о том, что мне предоставят фотографии работ Родченко для статьи.
Мы ушли после 11:30 – великолепный вечер, но я, если получится, всё же должен найти каких-то живописцев.
4 января
В Театр Мейерхольда с О’К⟨аллаган⟩ и Даной на интервью, за которым следует репетиция. М⟨ейерхольд⟩, который говорил по-немецки, был очень сердечен. Через О’К⟨аллаган⟩, которая великолепно говорит по-русски, я спросил его:
1. Оказал ли на него прямое влияние Джотто в его сценографии для «Ревизора» – наклонная трапеция, массовка и реквизит. Он ответил весьма утвердительно.
2. Помехой или стимулом служит для него обязанность пропагандировать. Он ответил, что его театр выражает дух времени и естественно и неизбежно должен работать с революционным материалом. Учитывая его официальную позицию 1919 года, его ответ был неудовлетворительным.
3. Не доставляет ли его актерам неудобства маленькая сцена в «Ревизоре» – ответ «нет» (принято с сомнением).
4. Одобряет ли он смешение кино
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.