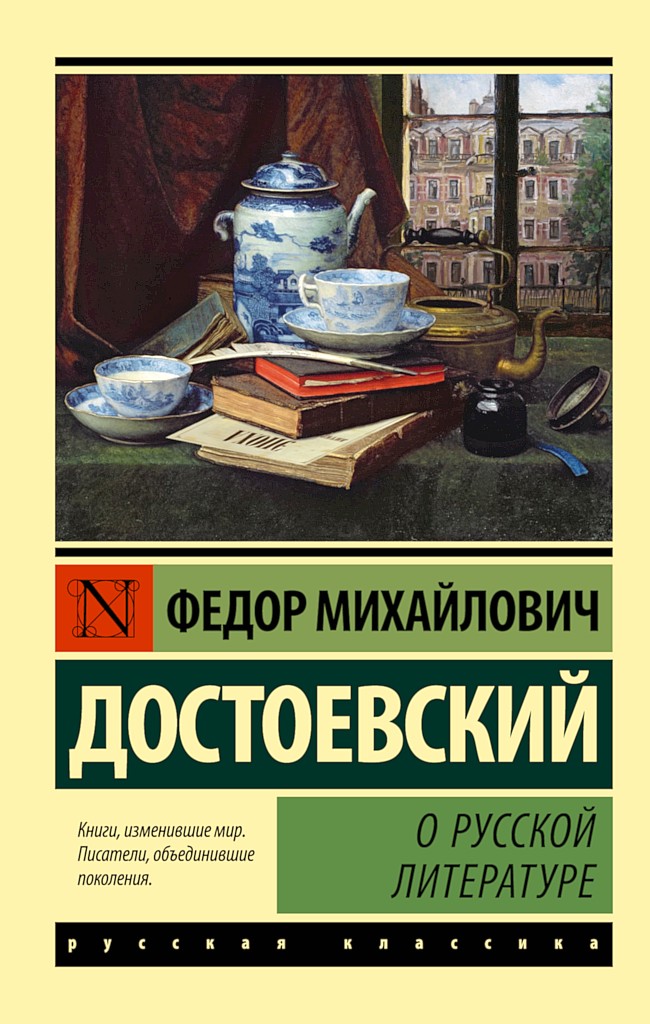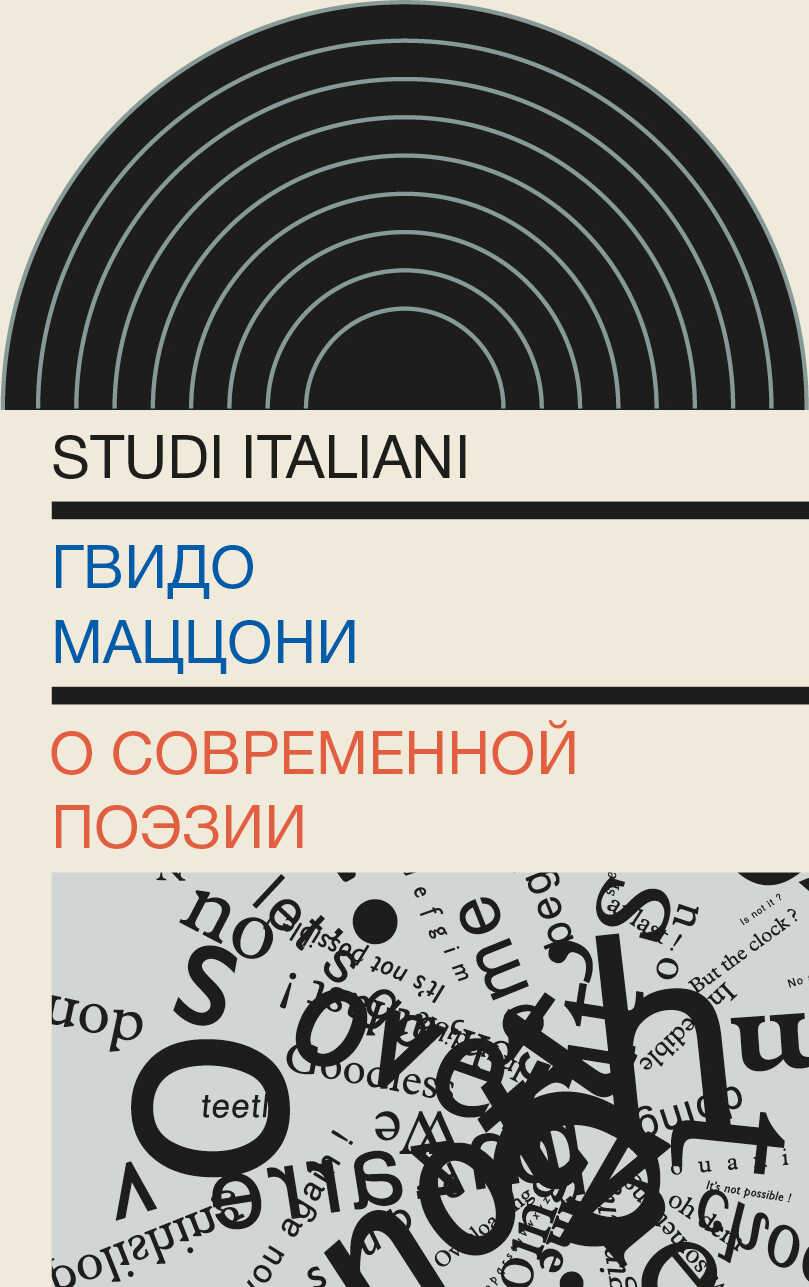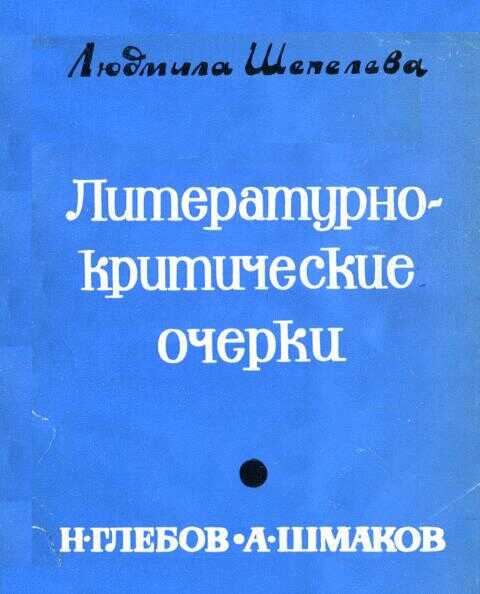Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин Страница 6
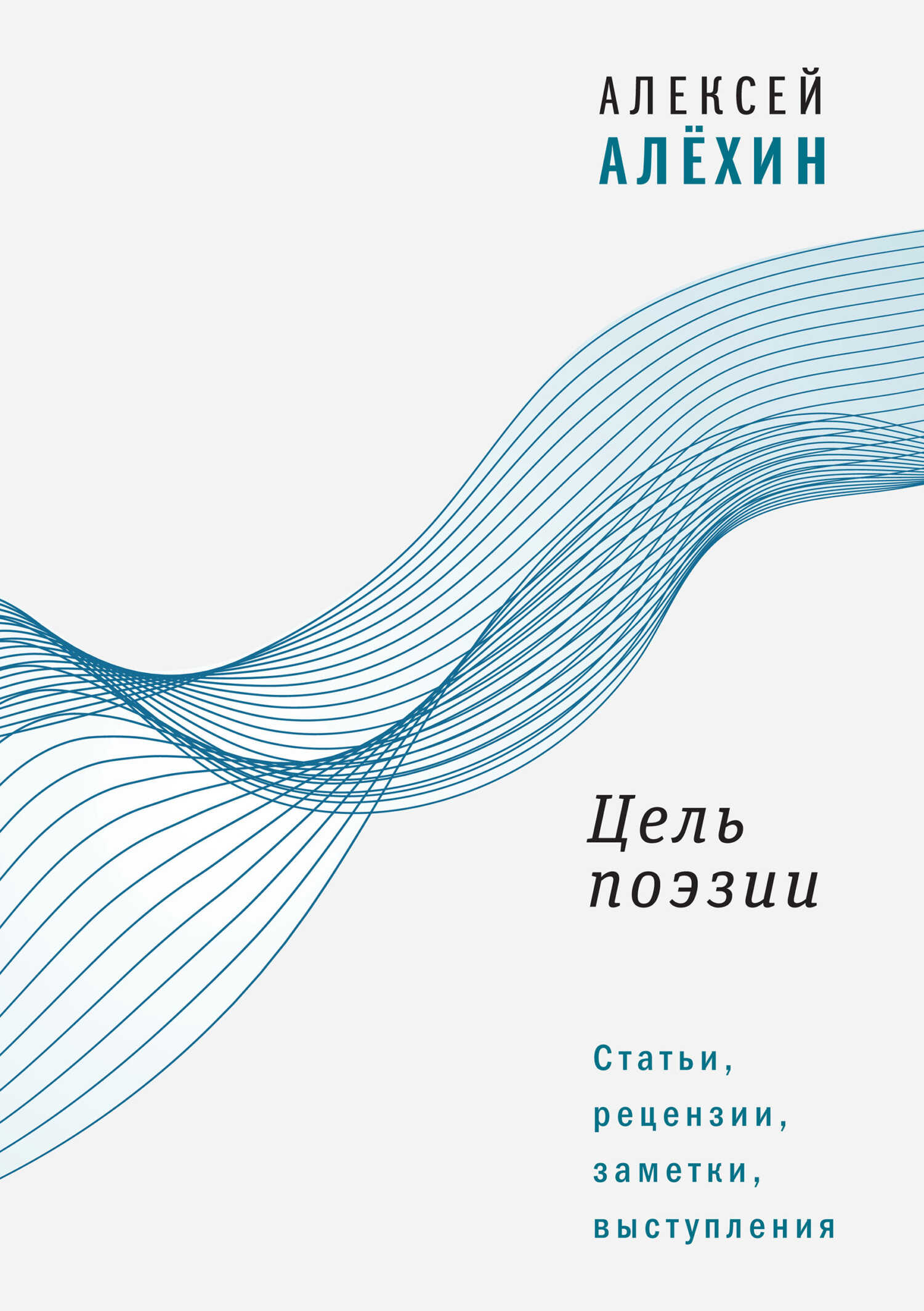
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Алексей Давидович Алёхин
- Страниц: 82
- Добавлено: 2025-04-11 09:02:06
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин» бесплатно полную версию:Поэт и критик Алексей Алёхин – основатель и бессменный главный редактор первого и долгое время единственного в России журнала поэзии «Арион» (1994–2019), подвижник современной поэзии, во всей полноте знающий и чувствующий ее движение и современное состояние. Статьи, эссе, рецензии, собранные в книге, охватывают почти три десятилетия, с середины 90-х годов по нынешний день. Они представляют суждения человека, не просто внимательно наблюдающего поэтический процесс, но включенного в него и собственной литературной деятельностью, и многолетней работой с молодыми поэтами в мастер-классах и семинарах. Собранные здесь статьи не только взгляд на современную русскую поэзию, но и, в немалой мере, ответы на вопросы, часто возникающие у молодых писателей.
Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин читать онлайн бесплатно
В условиях практически развалившегося рынка «интеллектуальной» литературы, к которой можно причислить и поэзию, заметно – как, кстати, и в начале минувшего века – выросла роль поэтических вечеров. Именно они свидетельствуют, что нижняя отметка падения интереса к стихам уже несколько лет как пройдена и спрос на них медленно, но верно идет вверх. Если в середине 90-х в Москве проходило от силы два-три таких собрания в неделю, число слушателей на каждом из них редко превышало 20–25 человек, а главное – практически равнялось числу выступавших: то есть люди приходили не столько послушать стихи, сколько почитать, – то теперь ежевечерне проводится по пять, а то и больше таких мероприятий, и число посетителей порой исчисляется сотнями. В меньшем масштабе, но та же тенденция прослеживается и в Санкт-Петербурге, и во многих провинциальных городах. Число литературных «салонов» быстро растет, регулярно собираются послушать стихи и в библиотеках, в разного рода музеях.
Отдельная и колоссальная по численности армия читателей поэзии сформировалась в Интернете – настолько, что иные горячие головы заговорили о новом поэтическом буме на уровне легендарных 60-х. Действительно, число поэтических сайтов исчисляется тысячами (а точнее, никто и не в состоянии их сосчитать), в том числе есть и очень крупные – на одном из них, например, представлено тридцать семь тысяч (!) авторов, при соответствующем количестве посещений. Но не надо иллюзий: такая «демократизация» вряд ли имеет какое-либо отношение к поэзии. В сущности, это просто свалка текстов, в которой, даже если изрядно покопаться, удастся обнаружить лишь единицы приличных стихов (серьезный поэт их туда не отдаст), а львиная доля читателей и суть их авторы. Создатели «демократических» сайтов уже начали осознавать проблему и задумываются над тем, как наладить на них серьезную редакторскую работу – иными словами, превратить в те же классические журналы, но в виртуальном исполнении. Вероятно, со временем так и будет. Ну а пока, за небольшим исключением, серьезную поэзию можно обнаружить в виртуальном пространстве лишь на сайтах, где размещаются электронные версии все тех же «толстяков».
И все ж сами цифры обнадеживают. Есть надежда, что среди всех эти десятков тысяч пишущих стихи попадаются и читатели. Да и пишущие не все же графоманы. И действительно, число людей, всерьез занимающихся поэзией – притом что окружающие к ней равнодушны и «прокормиться» стихами теперь уже вряд ли кому удастся, – не только очень велико, но и растет, редакции журналов завалены рукописями, и проходящие то тут, то там всевозможные семинары молодых поэтов собирают сотни претендентов.
Столь же обширна и география сегодняшней русской поэзии. Естественно, больше всего серьезных поэтов в столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Но и в провинции они не только рассеяны, но и причудливым образом образуют целые плеяды, во всяком случае – «месторождения»: можно всерьез говорить о плеяде молодых екатеринбургских поэтов, пермских, челябинских, иркутских… И плюс – целые и часто довольно мощные зарубежные поэтические «провинции», особенно североамериканская, израильская. Там есть не только действительно крупные поэты, но и возникают, возможно, свои версии русской поэзии – вроде того, как в свое время это случилось в англоязычной поэзии, хотя и в заметно меньшем масштабе.
Подводя итог и пытаясь в очередной раз предсказать, можно понадеяться, что в ближайшем будущем поэзия сохранит свою роль главной «пружины», сердцевины русской литературы. Во всяком случае, избежит угрозы «филологизации» – окукливания в резервациях университетских кафедр. Основаны эти надежды не только на очевидном многообразии и высоком уровне создаваемых поэтических текстов и наличии действительно крупных действующих мастеров, но и на том, что поэзия наша, притом и в лице нового поколения стихотворцев, вновь тяготеет – не в ущерб сложности – к внятности высказывания. А значит, у нее возможны не только авторы, но и читатели.
И еще одно соображение, из области социальной. Одна из причин снизившегося интереса к чтению стихов видится в тех реальных трудностях, чрезмерных и психологических, и чисто физических перегрузках, которые в переходный для страны период испытывают самые ценные потребители поэзии – техническая и гуманитарная интеллигенция: у нее просто не остается на стихи ни времени, ни сил. Есть надежда, что, обновив свою экономику, Россия даст людям больше чисто человеческой свободы. И тогда они вернутся к этому сложному чтению – разумеется, если новые поколения не утратят вкус к чтению вообще. Но это уже в значительной мере зависит от самой литературы, в том числе – от поэзии.
2003
Границы поэтического текста
«Что за ерунда! – подумал король. – Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что ли?..»
Г. Х. Андерсен. Новое платье короля
Границы поэзии внутри литературы отделяют ее от прозы, и они никогда не были абсолютно неподвижными. С обеих сторон шло и идет освоение сопредельных территорий: с одной возникает верлибр, версэ, стихотворение в прозе; с другой – опыты ритмической прозы в духе Андрея Белого или Артема Весёлого. Но только XX век сделал нас свидетелями попыток вывести поэзию за пределы не только стиха, но и вообще литературы.
Что я имею в виду?
Примерно с конца 80-х мы в очередной раз наблюдаем всплеск настойчивых – а можно сказать, что и навязчивых – поползновений безбрежно расширить границы собственно поэзии за счет разного рода театрализованных действ, визуального оформления текстов, эксплуатации некоего специфического гротескного образа автора и прочих внелитературных приемов. Теоретики этого направления, вразнобой именующего себя то концептуализмом, то авангардом, то постмодернизмом, объясняют данное явление новыми культурными условиями, в которых сам текст уже не имеет значения, а важен «контекст». Причем контекст не в широком смысле слова – как массив культуры, в котором все люди обитают, как рыбы в море, и вследствие которого мы, например, дети средиземноморской цивилизации, воспринимаем то или иное произведение искусства иначе, чем, скажем, китайцы. И даже не в конкретно-историческом значении специфики эпохи, места, ситуации. Нет, «контекст» по преимуществу трактуется прежде всего как способ и обстановка преподнесения «текста» публике. Они-то, якобы, и несут в себе основную эстетическую нагрузку в условиях, когда этого не может больше делать «скомпрометировавшее себя» слово.
Возможно. Однако на деле весь «контекст» сплошь и рядом реализуется то в легенде о двадцати не то тридцати тысячах стихотворений Д. А. Пригова (являющейся, по-видимому, его основным произведением), то в опусах Ры Никоновой, заключающихся в произносимом со сцены наборе звуков (порой – режущих ухо, иногда – мелодичных), а в области «визуальной» в произведениях вроде того, что принесли не так давно в поэтический отдел одного «толстого» журнала: это был стишок о дожде, напечатанный для большей выразительности на мелко нарезанных полосках бумаги, должных
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.