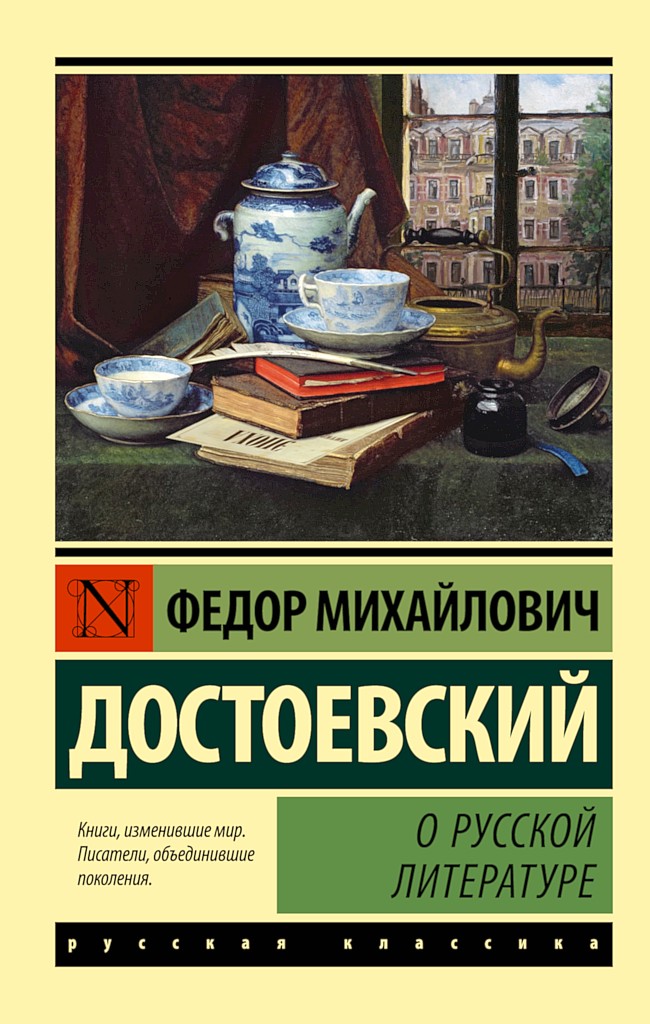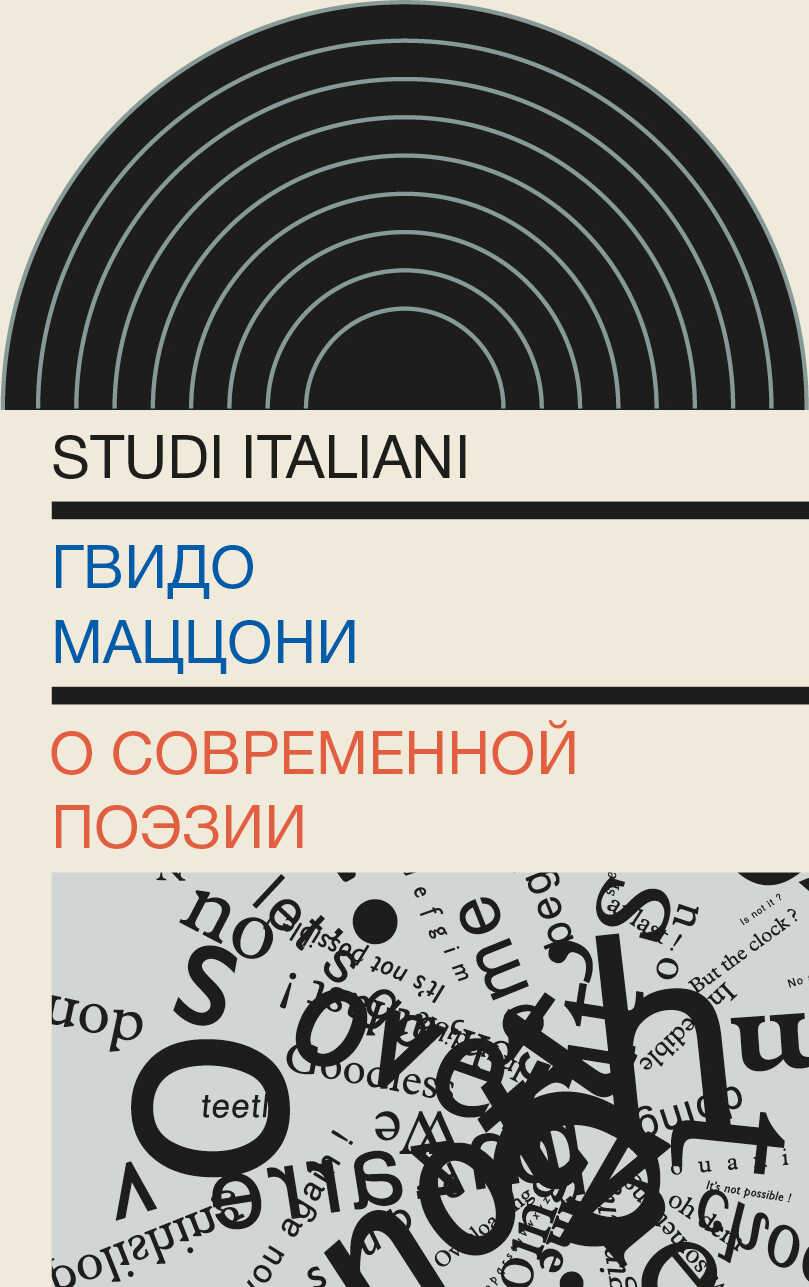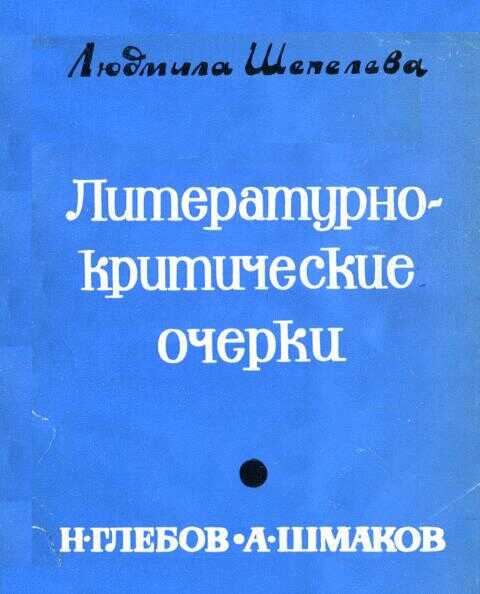Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин Страница 13
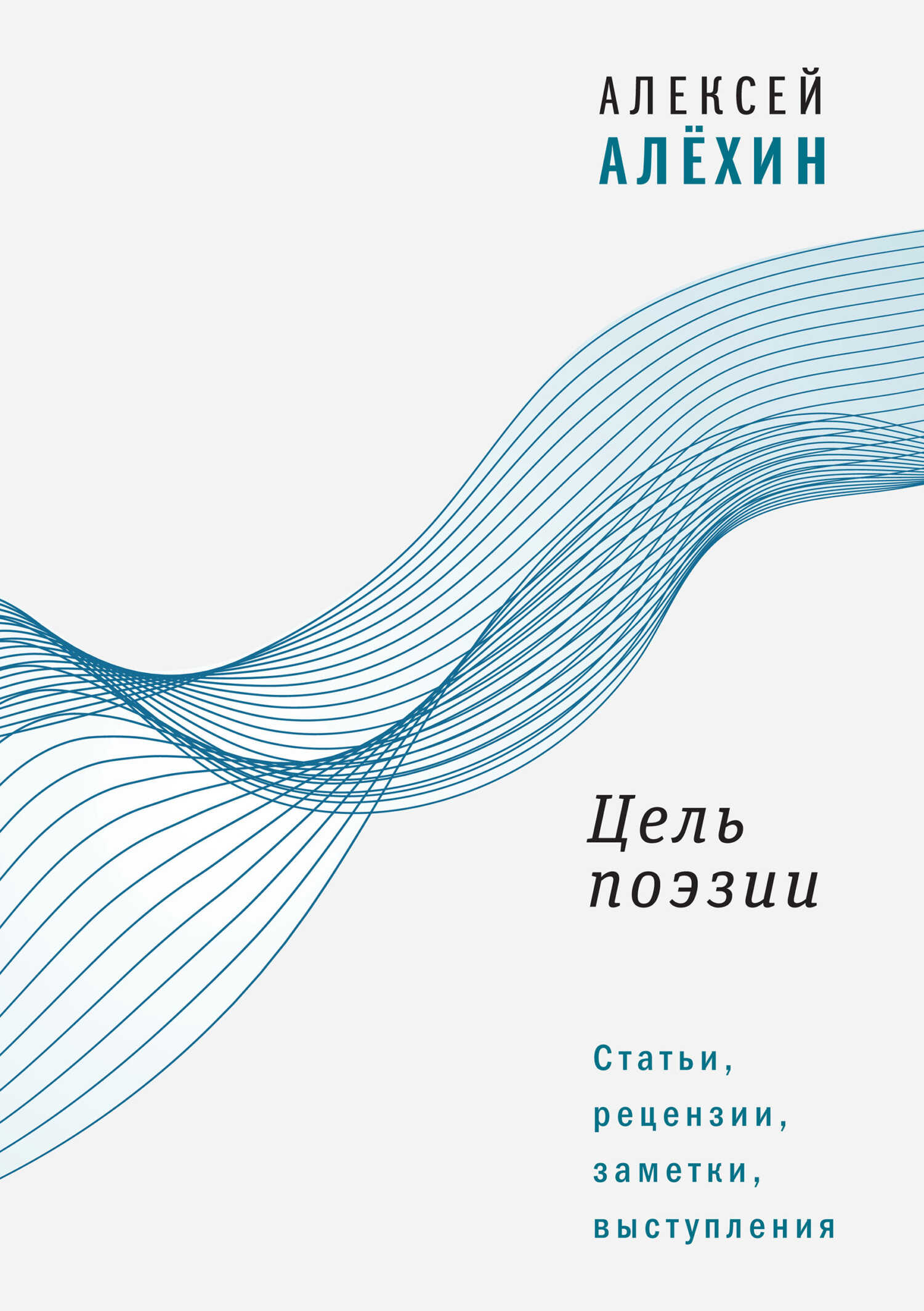
- Категория: Документальные книги / Критика
- Автор: Алексей Давидович Алёхин
- Страниц: 82
- Добавлено: 2025-04-11 09:02:06
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин» бесплатно полную версию:Поэт и критик Алексей Алёхин – основатель и бессменный главный редактор первого и долгое время единственного в России журнала поэзии «Арион» (1994–2019), подвижник современной поэзии, во всей полноте знающий и чувствующий ее движение и современное состояние. Статьи, эссе, рецензии, собранные в книге, охватывают почти три десятилетия, с середины 90-х годов по нынешний день. Они представляют суждения человека, не просто внимательно наблюдающего поэтический процесс, но включенного в него и собственной литературной деятельностью, и многолетней работой с молодыми поэтами в мастер-классах и семинарах. Собранные здесь статьи не только взгляд на современную русскую поэзию, но и, в немалой мере, ответы на вопросы, часто возникающие у молодых писателей.
Цель поэзии. Статьи, рецензии, заметки, выступления - Алексей Давидович Алёхин читать онлайн бесплатно
Одних подвела многолетняя демагогия про всеобщее равенство – у нас и государством-то кухарки управляли, что уж там о стихах: опусы рабочих, колхозниц и многодетных матерей с мазохистским наслаждением печатала к 8 Марта да ко Дню Советской Армии едва ль не каждая газета. Впрочем, и массовая стихопродукция оснащенных членскими билетами завсегдатаев ЦДЛ порой не сильно отличалась от кухаркиной и вызывала законный вопрос: а мы-то чем хуже? Жертвы этого искуса больше напирают на доходчивость и трогательность чувств (кстати, весьма похвальных: любовь к жене-мужу-детям, матери, Родине, березкам и проч. плюс праведный гнев на разорителей Отчизны), ну а стилистически, не ломая голову, тиражируют разношенные классиками советской поэзии до полного удобства «пушкинские» ямбы. Мне попадались претолстенные томищи, коллективные и авторские, таких опусов. Вкуса к чтению они не прививают, но, к счастью, их и не читают особенно, а главное – о них в профессиональной периодике почти не пишут и не говорят.
Других соблазнили две другие легенды советских времен: об авангарде и самиздате-андеграунде. В обеих, как и во всякой легенде, правда щедро приправлена мифом. О первой я уже писал (см. «Прощание с авангардом»); применительно к нашей теме есть смысл задержаться на второй.
Правда общеизвестна и заключается в том, что официальная подцензурная печать была пресна, невероятно консервативна эстетически и потому, даже помимо идеологии, строила тысячи препон всякому сколь-нибудь выходящему за пределы заурядного художественному явлению: культивировала серость. Яркое, таким образом, выдавливалось в самиздат. Но правда состоит и в том, что советская издательско-писательская машина состояла не сплошь из надсмотрщиков-чинуш и приспособленцев, но и из писателей от Бога, и из редакторов, искренне любящих литературу и кое-что в ней смыслящих – и держащих на тумбочке у постели отнюдь не «Краткий курс», а Фета, Элюара или того же Хлебникова. А еще в том, что андеграунд, в свою очередь, состоял отнюдь не из одних лишь первоклассных непризнанных гениев (коих вообще-то в истории, да не только нашей, а мировой, было один-два), но в огромной массе – из самых что ни на есть дилетантов и просто графоманов, и цинизму официозной литературы вполне адекватно противопоставлял дворницки-бойлерный снобизм, отголоски которого мы и нынче слышим. Слава богу, что самиздат был. Много чего замечательного он сделал нам доступным задолго до того, когда оно сделалось общедоступным, да и само это время общедоступности приблизил. Но оборотную сторону это замечательное явление имело: именно из-за полного почти отсутствия внутри него тех самых редакторов-профессионалов, из-за неслышимости (в том числе и по этическим причинам) всякого критического голоса, самиздат в немалой мере поощрил любительщину, в том числе и нынешнюю, – особенно после того, как несколько действительно ярких имен из андеграунда стали общеизвестны и общепризнанны.
Кстати, их оказалось совсем немного, что неудивительно. Все ж для поэта, числящего себя профессионалом, даже и в те времена естественным было стремиться печататься в «легальной», а значит, широко читаемой печати – и пусть урывками, это удавалось практически всем: Бродскому, Рейну, Айги, Сапгиру, Буричу…
Я вытащил с полки первый попавшийся том (признаюсь, не слишком любимого мною) «Дня поэзии» – он оказался за 66-й год. А в нем, наряду с мало что говорящими именами, обнаружил Антокольского, Мартынова, Слуцкого, Кирсанова, Матвееву, Чухонцева, Винокурова, Вознесенского, Мориц, Солоухина, Межирова, Искандера, Окуджаву, Лиснянскую, В. Соколова, Шаламова, Рубцова, Глазкова, Левитанского, Бурича… – я еще половину достойных упоминания пропустил. Не удовлетворившись чистотой эксперимента (все ж таки «послеоттепельный» год!), взял уже сознательно том застойного 1981-го, там имена в указателе шли по алфавиту: Ахмадулина, И. Ахметьев, Берестов, Битов, Бурич, Винокуров, Вознесенский, Высоцкий, Глазков, Жданов, Мандельштам, Мартынов, Олеся Николаева, Окуджава, Пастернак, Рубцов, Самойлов, Слуцкий, В. Соколов, Тарковский, Шкляревский… – половину опять выпустил. И это не самиздат.
Проблема, однако, не в преувеличении чисто художественных (человеческие – несомненны) достоинств того новодельного самиздата (о машинописных перепечатках Мандельштама, Пастернака, Гумилева, естественно, речи нет, тут все понятно) – людям свойственно приукрашать прошлое, а в том, что эти, пусть преувеличенные, но реально значительные в творчестве двух-трех выдавленных в андеграунд поэтов достоинства теперь уже безо всяких оснований переносятся на «самиздат» нынешний, который, включая и вполне типографские издания, сделался уже откровенным прибежищем и синонимом поэтической самодеятельности.
«Самиздат в России не может уйти в прошлое. Самиздат – это форма самовыражения», декларирует первый номер самиздатского журнальчика, начавшего в прошлом году выходить в Питере. И являет миру поэтические откровения такого рода:
Из апорий не рвется Нева.
Чернота обернулась квадратом.
По Вселенной гуляющий атом
Шапку сунул пешком в рукава.
Месяц вышел, поскольку – дыра,
Из тумана с ножом и ножовкой
Отпилить сами ножки на жестком
Ложе именем смертным одра…
– и далее в этом духе. Или:
дураада милоада
дурарая милорая
дурарада милорада
дурафая милофая
дураванда милованда –
и так далее, всего, если я не обсчитался, 75 строк.
В общем-то, и это не беда. Легко догадаться, что «посторонних» читателей у всей этой самодеятельности немного. Но тут примешивается еще одно не вполне стороннее и не безобидное обстоятельство.
Дело в том, что с общим и заметным сужением читательской аудитории коренным образом изменилась ее структура: ведь число читателей «по службе» (филологов, «ведов», аспирантов-диссертантов и т. п.) осталось неизменным. С уменьшением числа «просто» читателей доля тех других приблизилась к критической отметке, и налицо реальная опасность «филологизации» поэзии, когда ее пригодность для «ведения» (написания всякого рода исследований, диссертаций, изготовления концепций и проч.) ценится выше собственно художественных достоинств – то есть пригодности для чтения. И неслучайно развелось такое количество «экспериментаторов» (неглубокий исследователь, как известно, пуще всего ценит в искусстве формальный эксперимент, независимо от результата, – его легче препарировать): «филологическая», в упомянутом смысле, поэзия начинает активно вытеснять всякую иную, отпугивая скукой уже последних «непрофессиональных» читателей[3]. И в перспективе мы рискуем увидеть поэзию окончательно закуклившейся в резервации филологических кафедр, как это уже почти случилось в некоторых странах.
В отличие от садоводов-любителей, отнюдь не мечтающих о статусе сельскохозяйственного рабочего, в поэзии дело обстоит ровно наоборот. Сказать «любитель» – чуть ли не обругать. И это очень тяжелый вопрос –
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.