Павел Анненков - Пушкин в Александровскую эпоху Страница 93
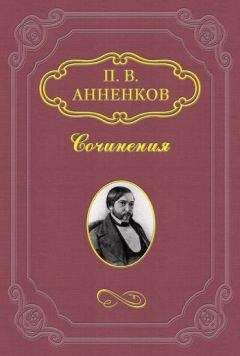
- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Павел Анненков
- Год выпуска: 1998
- ISBN: 985-6300-04-5
- Издательство: Лимариус
- Страниц: 126
- Добавлено: 2018-12-10 23:03:28
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Павел Анненков - Пушкин в Александровскую эпоху краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Павел Анненков - Пушкин в Александровскую эпоху» бесплатно полную версию:«…При составлении этих очерков первых впечатлений и молодых годов Пушкина мы имели в виду дополнить наши «Материалы для биографии А.С. Пушкина», опубликованные в 1855 г., теми фактами и соображениями, которые тогда не могли войти в состав их, а затем сообщить, по мере наших сил, ключ к пониманию характера поэта и нравственных основ его жизни. Несмотря на все, что появилось с 1855 г. в повременных изданиях наших для пополнения биографии поэта, на множество анекдотов о нем, рассказанных очевидцами и собирателями литературных преданий, на значительное количество писем и других документов, от него исходивших или до него касающихся; несмотря даже на попытки монографий, посвященных изображению некоторых отдельных эпох его развития, – личность поэта все-таки остается смутной и неопределенной, как была и до появления этих работ и коллекций…» (П.В. Анненков)
Павел Анненков - Пушкин в Александровскую эпоху читать онлайн бесплатно
Понятно, что стихотворения Пушкина, рассеянные по старым нашим журналам, начиная с 1814 года, и не попавшие в посмертное издание 1838 года, а также статьи, отрывки и все сокровища его музы, почерпнутые в его рукописях, уже не пользовались благодеянием охранного листа и остались без защиты. О них именно и шло все дело.
В том же положении находились еще и «Материалы для биографии Пушкина», и примечания к его произведениям, собранные самим издателем; но тут уже составитель их знал, при какой обстановке и в каких условиях он работает, и мог принимать меры для ограждения себя от непосредственного влияния враждебных сил. Оно так и было. Не трудно указать теперь на многие места его биографического и библиографического труда, где видимо отражается страх за будущность своих исследований, и где бросаются в глаза усилия предупредить и отвратить толкования и заключения подозрительности и напуганного воображения от его выводов и сообщений.
Можно сказать, и уже было говорено, что дополнение издания вновь открытыми или позабытыми произведениями Пушкина не имело той важности, какую ему придавали в то время. Остатки пушкинского творчества, рано или поздно, все-таки увидали бы свет. Ведь не могли же они пропасть бесследно: появление их составляло только вопрос времени, которое и постаралось бы разрешить эту задачу и, конечно, с большим успехом, большею полнотой и в больших размерах, чем как то оказалось возможным для нетерпеливых собирателей. Достоверно по крайней мере, что» предоставив работу будущим и более свободным эпохам, не встретилось бы печальной необходимости жертвовать стихами, строфами, периодами пушкинского текста для сбережения остального клочка его раздробленной мысли, как это случилось и должно было случиться со многими отрывками и цельными его произведениями при несвоевременном их опубликовании. Торопиться и хлопотать о немедленном их обнародовании было поэтому незачем.
Позволительно усомниться в основательности этих замечаний. Подчинять все многоразличные побуждения к деятельности в жизни спокойному, дельному и бесстрастному умствованию о несостоятельности, их ожидающей несомненно при известных данных в обществе, вряд ли значило оказывать услугу этому обществу. В настоящем случае даже и не видно, каким образом издатель мог бы, опираясь на трезвое понимание эпохи, устраниться от исполнения своей прямой обязанности издателя. Он должен был питать желание ознакомить публику, хотя отчасти, с объемом неожиданно доставшегося ей художнического наследства; он не имел права освободиться от побуждения представить публике сборник произведений поэта на столько полный, на сколько позволяла настоящая минута, и ввести в него все то, что могло весьма мирно ужиться с социальным положением тогдашнего общества. Если даже и при этом он встретил еще препоны на своем пути, он обязан был одолеть их, хотя бы для устранения противников приходилось употреблять оружие, у них же отобранное или позаимствованное. Точно такими же соображениями руководилась и вся тогдашняя печать наша, когда, не зная устали и не обращая внимания на поражения, она беспрестанно предъявляла новые иски к цензуре и вела их теми же способами и приемами, какие употребил и составитель «записки», хотя масштабы тяжб были тут иные. О верности этого замечания могут свидетельствовать оставшиеся еще в живых деятели той эпохи. Вообще следует сказать, что сильно ошибаются те из наших современников, которые представляют себе положение русской литературы в описываемый промежуток времени исключительно и безусловно страдательным и отличавшимся будто бы одною примерною инерцией и выносливостью. Писатели, издатели, труженики всех родов, напротив, много и деятельно работали тогда и притом двойным трудом – по своим специальным задачам, во-первых, и, во-вторых, в борьбе с обстоятельствами, которые застили им свет и заслоняли дорогу, что становилось как бы необходимым дополнением избранной профессии. Глухая война, безнравственная во многих своих подробностях, царствовала по всему пространству интеллигентного мира публицистов, литераторов, ученых, и она-то именно и спасла все зародыши развития мысли, какие существовали в обществе. Если нравственные и умственные силы общества оказались на лицо и даже в значительном обилии тотчас же, как сняты были первые путы, мешавшие их движению, то этот несомненный факт нашей жизни, удививший многих, а некоторых и неприятно, подготовлен был всецело предшествовавшим периодом литературы. Главнейшие ее деятели ни на минуту не сомневались за всю эту эпоху в неизбежном появлении дня свободного труда, которого и дождались.
Переходим к документу нашему, снабжая его отметками касательно участи, которая постигла каждое из осужденных мест пушкинского творчества в окончательной их проверке.
Выдержки из объяснительной записки, поданной издателем «Сочинений Пушкина», 1855–1857 годов, главному правлению цензуры в 1854 году
1
Места из не изданных пушкинских произведений, вошедшие в состав «Материалов для биографии» поэта и предложенные к исключению г. цензором.
I.<левая колонка>
К исключению.
«На об. страницы 69 (по рукописи) не попавшие в печать – по выражению издателя – отдельные стихи из предисловия к поэме «Кавказский Пленник»:
a)
Когда я погибал, безвинный, безотрадный,И шепот клеветы внимал со всех сторон,Когда кинжал измены хладной,Когда любви тяжелый сонМеня терзали и мертвили,Я близ тебя…
b)
Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем,Я жертва клеветы и мстительных невежд,Но, сердце укрепив надеждой и терпеньем…
c)
Когда роскошных дев весельяМладыми розами венчалИ жар безумного похмельяМинутной страсти посвящал…
<правая колонка>
Объяснения издателя.
Места эти из предисловия к «Кавказскому Пленнику» совершенно в том же духе написаны, как и настоящее предисловие к нему, которое всегда прилагалось при поэме (и ныне будет приложено). Они не содержат никакого намека на людей, ибо принадлежат к байроническому направлению, которое в то время (1822) было в моде. В биографии издатель еще представляет эти места как образец неудачного желания произвести поэтическое лицо на ложных основаниях и приводит слова Пушкина, который в том сознавался сам, от чего отрывки имеют важное значение для биографии, во-первых, как поучение будущим писателям, а во-вторых, как подробность для картины развития поэтического таланта в самом авторе.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




