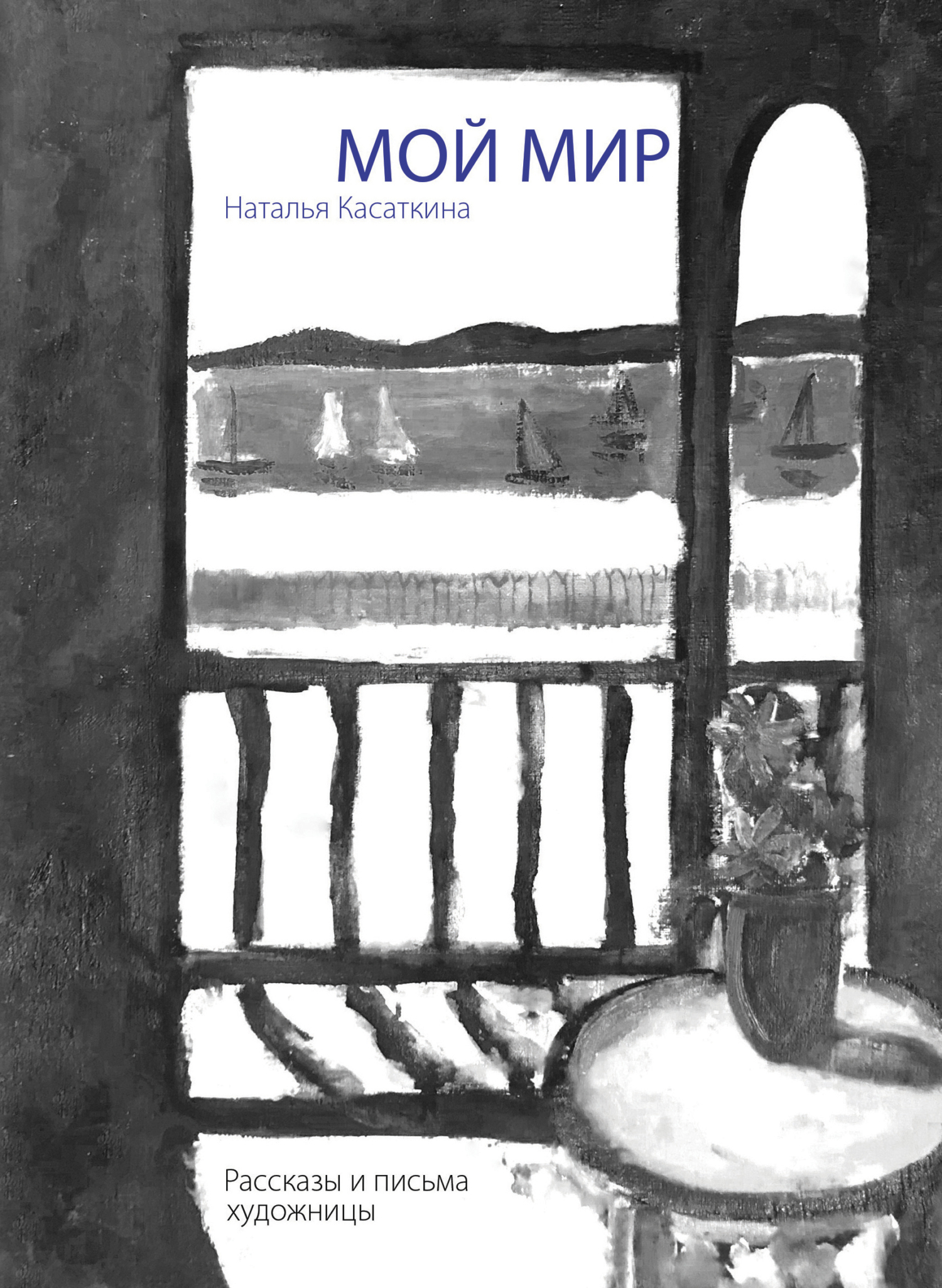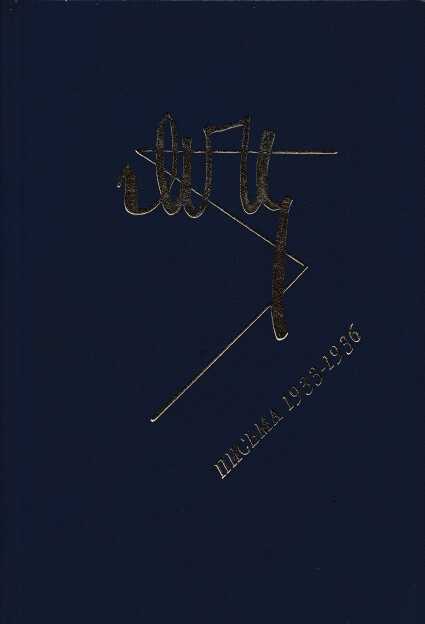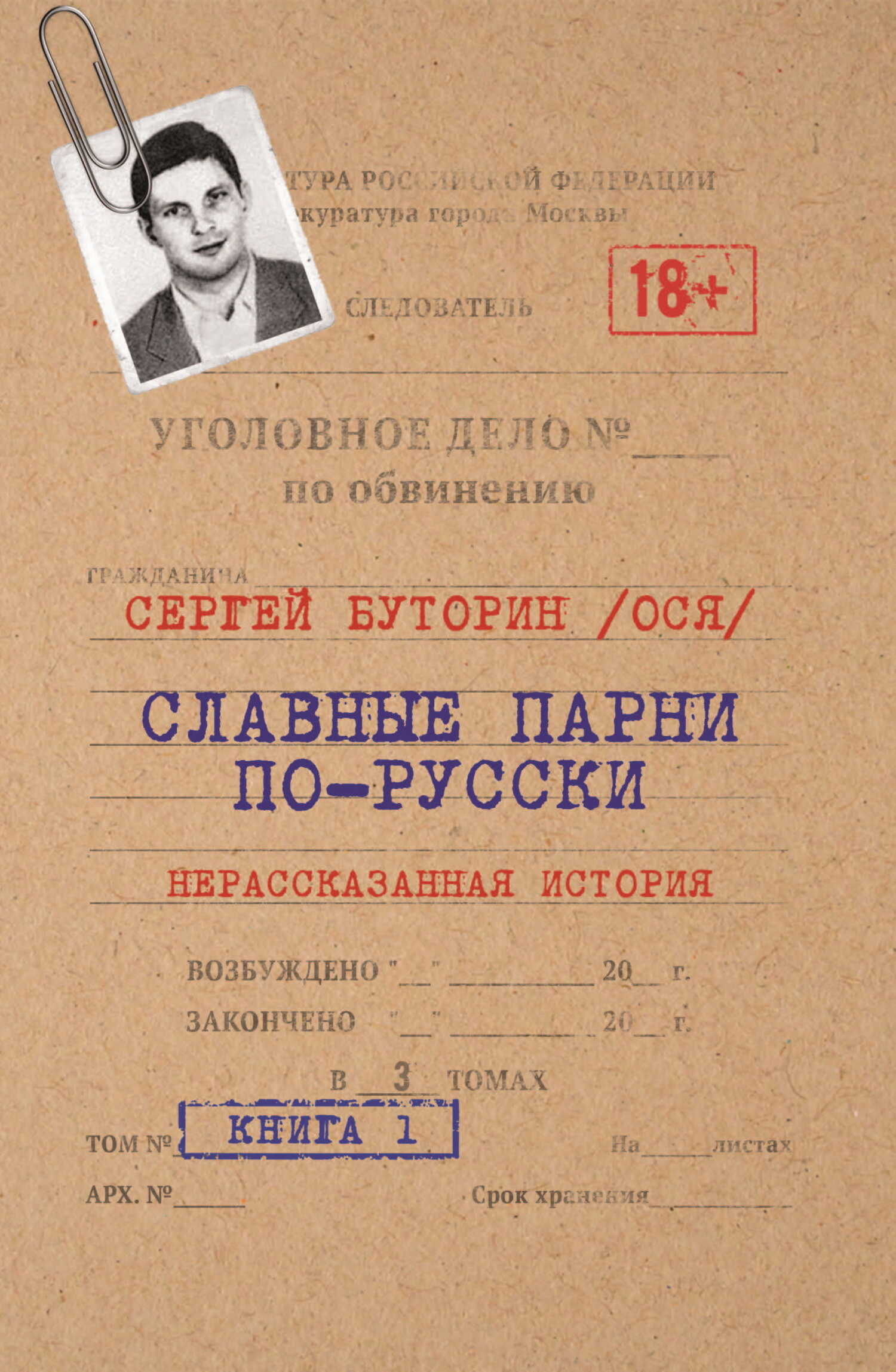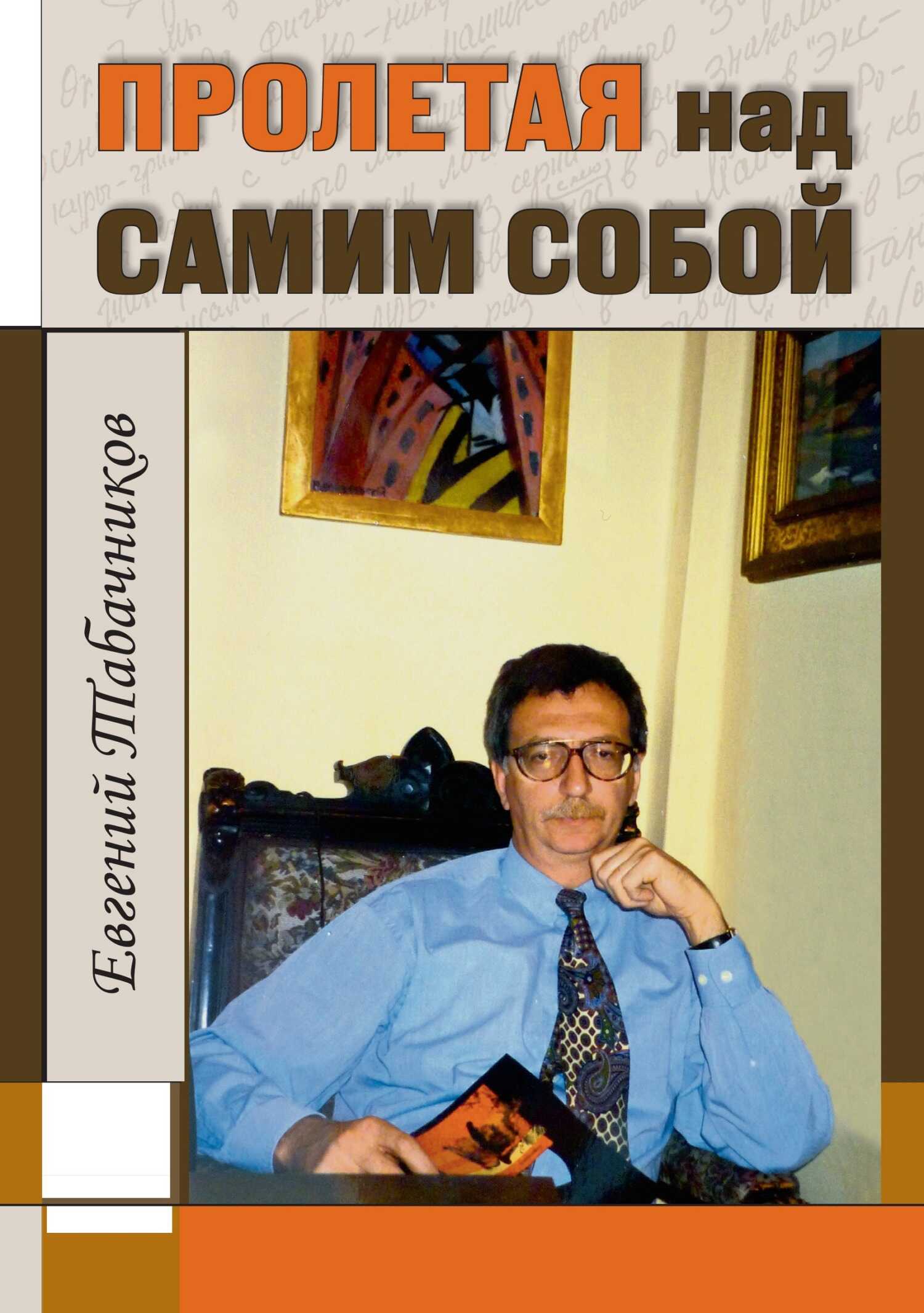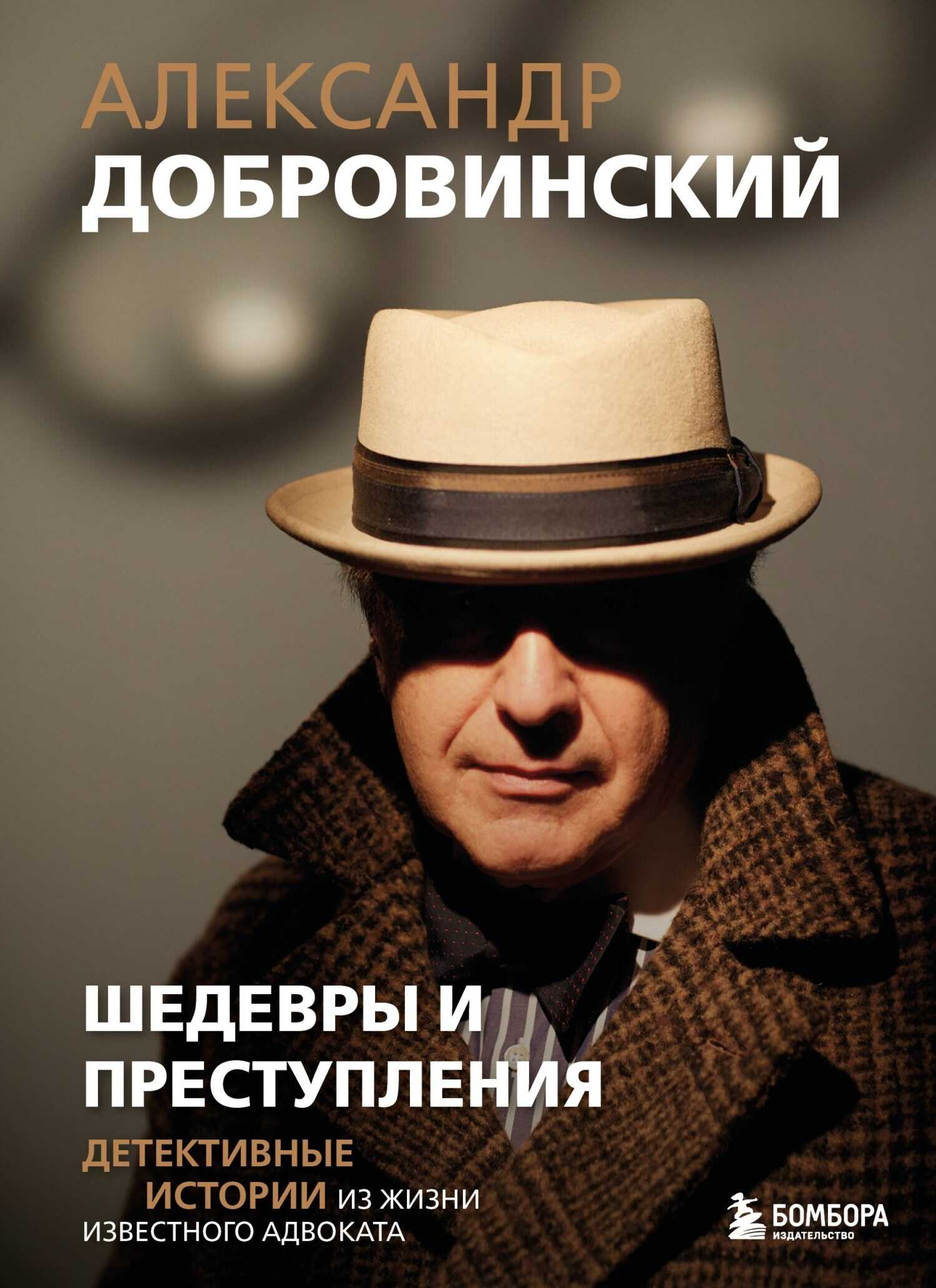Эмигрантские тетради: Исход - Федор Васильевич Челноков Страница 54
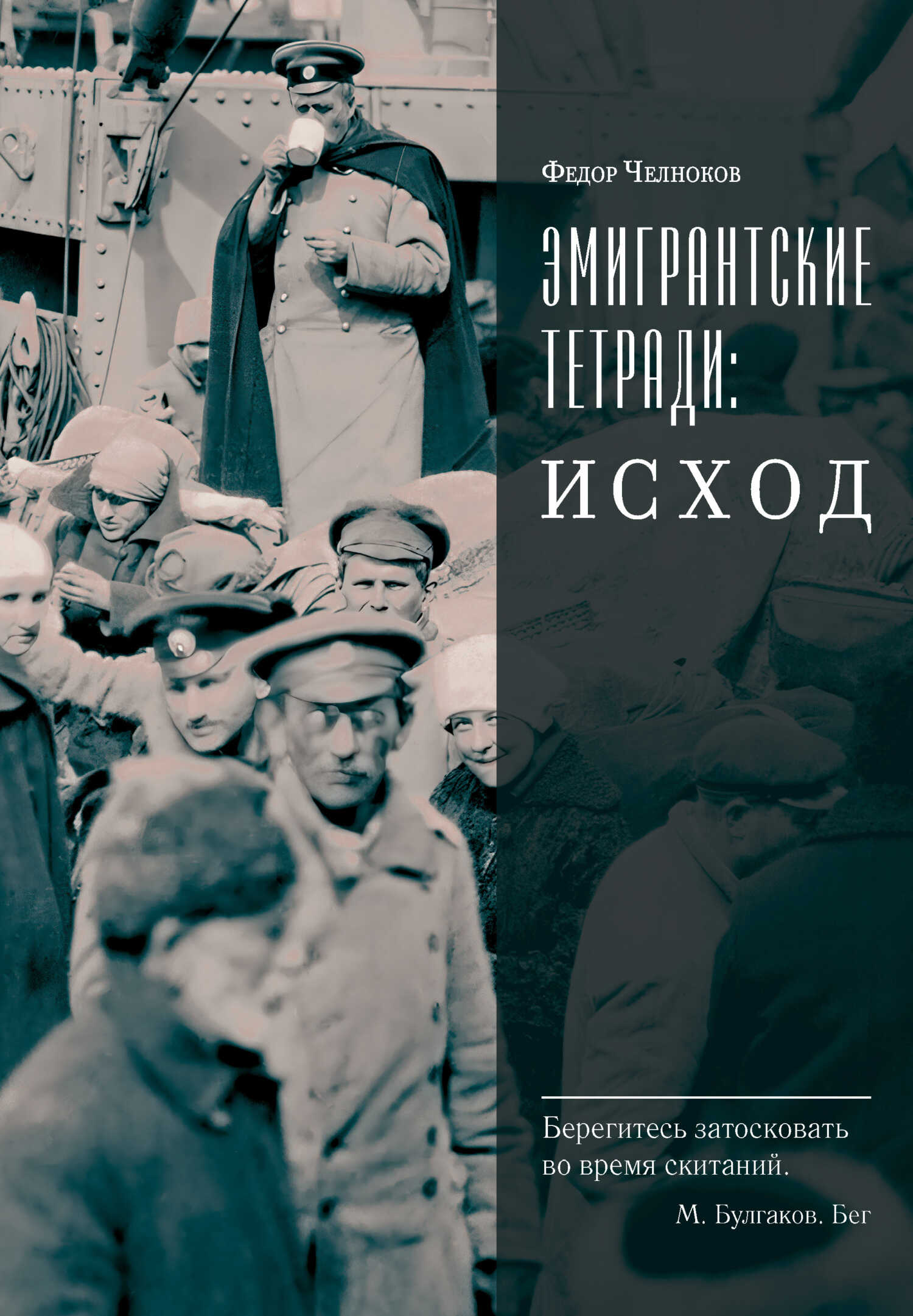
- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Федор Васильевич Челноков
- Страниц: 77
- Добавлено: 2025-07-04 15:48:25
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Эмигрантские тетради: Исход - Федор Васильевич Челноков краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Эмигрантские тетради: Исход - Федор Васильевич Челноков» бесплатно полную версию:В настоящем издании впервые публикуется рукопись Федора Васильевича Челнокова (1866–1926) – потомственного промышленника и почетного гражданина Москвы, – написанная им в эмиграции в 1919–1926 гг. «Эмигрантские тетради», первая часть рукописи, описывают драматические события 1919 года: вторжение Красной армии на территорию Крыма приводит к Крымской эвакуации – массовому исходу населения и войск Белой армии и Антанты.
Вместе с братом, Михаилом Васильевичем Челноковым – бывшим городским главой Москвы, лидером кадетов – и большой группой известных представителей дворянства и буржуазии автор покидает Россию на британском судне и попадает в Сербию, только что отвоевавшую свою независимость. В составе русской делегации братья Челноковы посещают Боснию и Герцеговину. Через разрушенную в Первой мировой войне Болгарию автор возвращается в Ялту, чтобы вскоре покинуть Родину навсегда, о чем повествует вторая часть рукописи.
Эмигрантские тетради: Исход - Федор Васильевич Челноков читать онлайн бесплатно
Бродя таким образом, мы, наконец, добрались до своего отеля. После обеда нам, однако, отдохнуть не дали. Были поданы экипажи, в которых повезли совсем в другую сторону [от той, ] куда мы ездили вчера. Куда и зачем – мы не знали, а было только известно, что в 6 часов должен начаться митинг около нашего отеля, а когда мы выехали было уж часа три. Дорога была длинная, прямая, по совершенно ровному месту едем уж целый час, а ничего интересного вблизи нет, только на горах явственно обрисовался какой-то очень древний замок. Невозможно, чтобы нас везли туда, добраться до него в это короткое время, очевидно, было невозможно. Потом оказалось, что это замок какого-то герцога Стефана и ему уже 800 лет, и ехали мы не к нему, а опять к водному источнику, выливавшемуся из-под отвесной горы громадной высоты. Вода выходила из большого грота, куда можно было проникнуть на лодке, чего мы не сделали за отсутствием времени. Наши ораторы должны были страшно торопиться, чтобы вовремя попасть к митингу, они и так опоздали к нему больше чем на полчаса. Наша же компания, т. е. я, Охотников и Михаил Васильевич, задержались подольше.
Около этого грота была совершенно разрушенная мечеть. Погибла она от взрывов динамита, понадобившихся австрийцам при каких-то работах. Никакие хлопоты не заставили австрийцев восстановить разрушенный храм, так он и лежит в развалинах. Около мечети был еще дом, принадлежащий сторожу этой мечети, к нашему удивлению, оказавшемуся индейцем[70], живущим здесь уж много лет и охраняющим не столько развалившуюся мечеть, сколько мощи двух магометанских святых, покоящихся в отдельном помещении. Индеец открыл нам туда дверь, и мы увидали две рядом стоящие гробницы, одна из которых была вся покрыта разными четками, вероятно, приношениями верующих. Тут же на стене висел громадный шестопер – или булава – одного из святых, которую трудно было держать, так она была тяжела. Видно, магометанский святой тоже не гнушался воинским делом, как и сербские попы.
По горе около этого места в диком состоянии, как лес, росли гранаты, дети и бабы рубили их при нас на метлы, и в их зелени виднелось немало еще зеленых гранатов – зрелище, еще мною не виданное. Мы вернулись в город, когда митинг был в полном ходу, и вместо того, чтобы слушать опять уже слышанные речи, мы стали укладывать свое добро. Было решено, что в 11 часов мы забираемся в свои вагоны, где и будем ночевать, так как поезд должен был отбыть рано утром по направлению в Дубровник или Рагузу[71]. Мы должны были, таким образом, оказаться на берегу Ядранского или Адриатического моря, куда тянуло всех, чтобы покупаться и немного отдохнуть от этой, хотя и очень интересной, но все же утомительной поездки.
Товарищи наши заметили, однако, наше отсутствие на митинге, и князь Урусов сказал мне, что «Челноковы отбиваются от рук и вместо того, чтобы тут представительствовать, где-то пропадают, то же сделали утром, уйдя раньше других на молебен в собор». Итак, уже в Мостаре начали сказываться особенности русского характера в наклонности к ссорам, что на дальнейшем нашем пути стало сказываться все сильней и сильней.
Дубровник
Пообедав в последний раз в Мостаре без Городского Головы, сказавшегося больным, мы в обществе священника и аптекаря, принявшего на себя звание секретаря Общества Славянской взаимности, выехали на вокзал около 11 часов ночи. Но так как спать никому не хотелось, то отправились в кафану, где вели прощальную беседу, уничтожая «церно вино». Затем, распрощавшись с провожавшими, забрались в вагон на ночлег, а так как в нашем распоряжении было только пять действительно удобных кроватей, а троим приходилось устраиваться как Бог пошлет, то и решили, что старшие укладываются поудобней, а младшие по креслам в вагон-салоне и на столе в купе Михаила Васильевича. Стол занял М. М. Охотников. Каразин охотно спал в кресле, другое кресло, следовательно, причиталось Урусову. Он обиделся, хотя возражать не мог, а только ворчал, что венский посол, каковым [он] никогда не был на самом деле, вдруг попал в младшие, очевидно, намекая на меня, что, хотя я и старше его, но никакими постами не отличался. Пришлось мне, однако, пойти в их салон забрать свои вещи, и этот «многоуважаемый посол», вместе с членом думы Каразиным, проводили меня из вагона таким «с Бого́ м» (сербское прощанье), что оно походило скорей на улюлюканье каких-то мальчишек. Я с удовольствием унес ноги от этих господ и улегся спать.
Утром 14 августа проснулись мы с Башмаковым рано, и он, бывший уже прежде в этих местах, указал мне на место, где мы проезжали. Место было действительно особенное: поезд шел будто по берегу высохшего озера, на дне которого были вспаханы маленькие участки земли, засаженные кукурузой, жалкой и чахлой. Изредко попадавшиеся жилища были малы и жалки, похожие скорей на маленькие будки. От места, по которому мы проезжали, кверху поднимался далеко в высоту настоящий каменный хаос – ни травинки, ни куста – все голо. Башмаков объяснил мне, что мы действительно едем по берегу озера, которое раз в год пополняется подземными водами и затем вода куда-то исчезает и больше уж это место не видит воды почти весь год, так как дожди здесь очень редки, почва бедна и урожай получается самый жалкий. Однако люди не брезгают и этим печальным местом, так как почти вся Герцеговина представляет собой каменный хаос.
Жутко было ехать этой каменной пустыней, но поезд наш не смущался и, изгибаясь то туда, то сюда, влетел, наконец, в длинный тоннель, миновав который мы увидали Ядранское море, берег которого хоть и не особенно густо, но был покрыт растительностью, состоявшей из маслин, кипарисов и других южных растений (я забыл сказать, что, когда мы ехали по Боснии, приходилось проезжать целыми березовыми лесами, которых я так давно не видал). Поезд начал постепенно спускаться ниже, извиваясь, как змей, по уклонам гор. Мы приближались к Дубровнику, куда и прибыли 14 августа около
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.