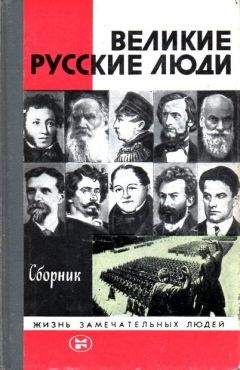Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы к истории моего времени - Семен Маркович Дубнов Страница 39
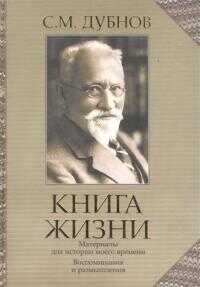
- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Семен Маркович Дубнов
- Страниц: 336
- Добавлено: 2025-02-03 14:02:32
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы к истории моего времени - Семен Маркович Дубнов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы к истории моего времени - Семен Маркович Дубнов» бесплатно полную версию:Мемуары выдающегося историка, публициста и общественного деятеля Семена Марковича Дубнова (1860–1941) — подлинная энциклопедия еврейской жизни в России. Мемуары написаны на основе дневников, которые С. Дубнов вел на протяжении всей жизни и в которых зафиксирована богатейшая панорама событий второй половины XIX — первых десятилетий XX в. Непосредственный участник и свидетель решающих событий эпохи — заката Гаскалы, зарождения и развития палестинофильства, а позднее сионизма, революции 1905–1907 гг., создания еврейских политических партий и организаций, Февральской и Октябрьской революций 1917 г. и гражданской войны, С. М. Дубнов скрупулезно восстанавливает картину прожитых лет, рисует портреты своих друзей и соратников — писателей и поэтов Шолом-Алейхема, X. Н. Бялика, Бен-Ами, С. Фруга, H. С, Лескова, А. Волынского; политических и общественных деятелей М. Винавера, О. Грузенберга, А. Ландау, Г. Слиозберга и многих других.
Деятельность С. М. Дубнова протекала в важнейших центрах еврейской жизни Одессе, Вильно, Петербурге в годы, когда происходили кардинальные изменения в судьбе еврейского народа. Первые два тома посвящены научной, общественной и политической жизни России, третий том дает представление о русско-еврейской эмиграции в Германии, где С. М. Дубнов оказался в 1922–1933 гг.
Это первое научное издание всех трех томов мемуаров, представленных как единый комплекс, снабженных вступительной статьей, биобиблиографическими комментариями и именным указателем.
Вступительная статья и комментарий В. Е. Кельнера
Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы к истории моего времени - Семен Маркович Дубнов читать онлайн бесплатно
Публичная библиотека была, однако, достаточно богата, чтобы утолить самый большой духовный голод. Я набросился на чтение новых произведений научной философии. Увлекла меня грандиозная «синтетическая философия» Спенсера{89}. Его основанная на дарвинизме, вернее биологизме, доктрина эволюции во всех областях жизни, от первобытной до наивысшей культуры, казалась мне, как и многим моим современникам, последним словом науки. Сознание, что именно наше поколение удостоилось постичь истинную философию, наполняло меня гордостью. Смущало меня только разногласие моих любимых мыслителей относительно движущих сил истории: Бокль и Дрепер утверждали, что история человечества сводится к борьбе идей, а Спенсер сводил ее к борьбе чувств и страстей. Меня более привлекала интеллектуальная, чем эмоциональная теория, Когда же я вскоре познакомился с теорией Маркса, видящей в борьбе интересов весь смысл истории, то мой идеализм совершенно не мог с этим примириться.
Помню тогдашние ежедневные поездки из предместья в город, Ездил я обыкновенно по «конке», вагоне на рельсах, который тащила пара лошадей; вагон шел так медленно, что на ходу можно было вскакивать и сходить. Целый час тащился он по длинному Екатерингофскому проспекту и Большой Садовой, до последней остановки на углу Садовой и Невского, у Публичной библиотеки. Я ездил на открытом верхнем ярусе или «империале» конки, где проезд стоил три копейки вместо пяти внутри вагона. В летние дни это была приятная прогулка: открывалась вся панорама Петербурга с его огромными зданиями и кипящим людским потоком на улицах. Наши материальные ресурсы были крайне скудны, и мы вынуждены были обедать в еврейской «Дешевой кухне» на углу Вознесенского проспекта и Большой Садовой. Там обедали и бедные студенты, платя за обед из одного блюда 7 копеек, а из двух блюд 13 коп. Помню, как мне неприятно было стоять там в очереди за тарелкою супа, которую приходилось получать от стоявшей у котла дамы или прислуги. Мы предпочитали поэтому часто питаться дома, всухомятку или хлебом с чаем.
Чтобы не тратить времени на ежедневную ходьбу из дальней окраины в центр города, я с братом переселились ближе к центру. В 6-й Роте Измайловского Полка (так называлась одна из боковых улиц Измайловского проспекта, где на углах находились солдатские казармы) мы заняли комнату в квартире наших мстиславских земляков, еврейской семьи Александровых. Хозяин, сам живший в столице в качестве фиктивного содержателя белошвейной мастерской, уладил с полицией нашу прописку, и мы устроились в новой квартире довольно удобно. Единственною помехою нашим занятиям был сам хозяин Александров{90}, очень оригинальный тип. Человек средних лет, имевший жену и троих детей, он в поисках заработка истребовал все пути по части торгового посредничества и нигде не мог прочно пристроиться. Авантюрист в практической жизни, он был и духовным авантюристом. Обладая острым «талмудическим» умом, Александров во время своих скитаний по свету нахватался всяких обрывков знания из новой литературы, еврейской и русской, и ловко пользовался ими для софистических рассуждений, Потеряв традиционную веру, он своим острым умом разлагал всякую веру, всякий идеализм. Он был «нигилистом» вследствие полуобразованности, оставившей его в стадии отрицания старого, без материала для созидания новых убеждений. По целым дням он спорил со мною и братом о дарвинизме, позитивизме, эмансипации женщин, причем доходил до самых цинических выводов: нет истины, а есть только игра ума или страстей. Меня, искателя правды-истины и правды-справедливости, возмущал этот умственный и нравственный нигилизм, и я считал Александрова способным на самые дурные дела. Мои опасения скоро оправдались, как будет рассказано дальше.
В это лето я был впервые втянут доброжелательными друзьями в литературную работу, гораздо раньше, чем я думал. Моим первым демоном-искусителем был известный писатель Маркус Каган (Мардохай бен Гилель Гакоген){91}, который был старше меня на несколько лет и жил тогда в Петербурге в семье родителей. Он был сотрудником венского журнала «Гашахар» и варшавского «Гацефира»; он также работал в редакции русско-еврейского еженедельника «Рассвет»{92} в Петербурге. Познакомившись с ним как с земляком по Могилевской губернии, я в первое время пребывания в Петербурге пользовался его советами и практическими указаниями в чуждой мне столице. Вскоре после моего приезда он посоветовал мне писать статьи для русско-еврейских еженедельников, так как литературный гонорар может облегчить мою материальную нужду. Как я отнесся к этому совету, видно из следующего места в моем письме к друзьям (17 июля 1880): «Он (Каган) советует мне, в случае если не достану уроков, вступить в круг этой пишущей братии и получать гонорар. Несмотря на то, что такое отношение к литературе шокирует мое высокое понятие о ней, но если ход событий меня вынудит к этому, я не буду винить себя за осквернение святыни корыстными помыслами. Есть для человека нечто более святое: свобода, независимость». Я долго еще колебался: не хотелось профанировать профессиональными целями призвание писателя, которое рисовалось мне в сиянии славного подвига лишь в будущем. Но жестокая действительность вынудила первую уступку. «Уроков я не достал, — писал я 29 августа, — вот я и решился посвятить несколько часов в день работе в редакции „Русского еврея“{93}, который вознаграждает своих сотрудников очень прилично. Уже с неделю или больше тому я пошел в редакцию. Один мой знакомый (М. Каган) представил меня заведующему редакцией д-ру Кантору{94}, пишущему передовые статьи, и спросил, могу ли я иметь работу в редакции. Меня попросили кое-что написать, хотя бы корреспонденцию из Мстиславля, чтобы испытать мои литературные способности. Я набросал корреспонденцию и снес ее в редакцию. Сегодня я должен был узнать мнение редакции о моем сотрудничестве. Я был там, и мне сказали, что корреспонденция будет напечатана, за положительным же ответом (относительно сотрудничества вообще) редактор попросил меня прийти в будущий четверг». Корреспонденция была напечатана (в № 37 «Русского еврея», под инициалами С. Д.), и все ее содержание исчерпывалось подзаголовком: «Общественные дела; воспитание; необходимость ремесленного училища». Я писал об оскудении общественной жизни в провинции, о безобразном хедерном воспитании и о необходимости общеобразовательных школ с ремесленными отделениями — идея будущего «Орта»{95}, зародыш которого появился в том же году в виде «Фонда для поощрения ремесленного и земледельческого труда».
Первая проба окрылила меня, и я стал думать о настоящей литературной работе, которая представлялась мне в следующем виде (цитирую из того же письма к друзьям): «Страстно любя историю, я решил начать писать для „Русского еврея“ целый ряд очерков по средневековой истории
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.