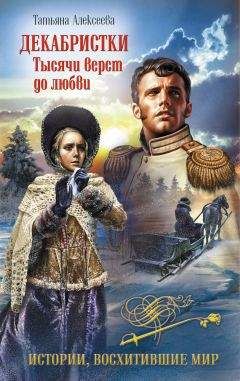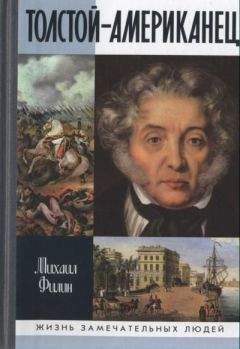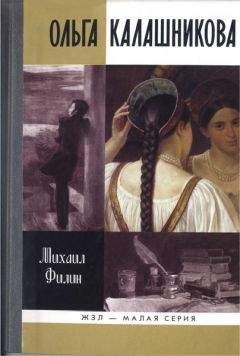Михаил Филин - Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина Страница 30

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Михаил Филин
- Год выпуска: 2006
- ISBN: 5-235-02899-6
- Издательство: Молодая гвардия
- Страниц: 163
- Добавлено: 2018-12-10 20:51:22
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Михаил Филин - Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Михаил Филин - Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина» бесплатно полную версию:Пленительный образ княгини Марии Николаевны Волконской (урожденной Раевской; 1805–1863) — легендарной «русской женщины», дочери героя Наполеоновских войн и жены декабриста, последовавшей за осужденным супругом в Сибирь, — запечатлен в русской и зарубежной поэзии, прозе и мемуаристике, в живописи, драматургии и кино, в трудах историков, публицистов и литературоведов. Общественная мысль в течение полутора веков трактовала Волконскую преимущественно как «декабристку». В действительности же идеалы княгини имели мало общего с теорией и практикой «первенцев свободы»; Волконская избрала собственный путь, а «декабризм» был лишь неизбежным фоном ее удивительной биографии.
Вниманию читателей предлагается первое в отечественной историографии подробное жизнеописание М. Н. Волконской. По мнению автора книги М. Д. Филина, главным событием ее бурной, полной драматических и загадочных страниц жизни стало знакомство с Пушкиным, которое переросло во взаимную «утаённую любовь» — любовь на все отпущенные им годы. Следы этого чувства, в разлуке только окрепшего, обнаруживаются как в документах княгини, так и во многих произведениях поэта. Изучение пушкинских сочинений, черновиков и рисунков, а также иных текстов позволило автору сделать ряд оригинальных наблюдений и выводов, ранее не встречавшихся в пушкинистике.
Михаил Филин - Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина читать онлайн бесплатно
Пушкинисты давно изучили семантику фамилии «Онегин» и пришли к выводу, что она в ту пору была в России искусственной, «невозможной вне художественного текста», имела «отчетливо-литературный, а не бытовой характер»[175]. Иными словами, Пушкин выдумал, сконструировал эту условную фамилию. Ономастический ход поэта породил множество исследовательских версий, самых изощренных и временами забавных. Среди них, однако, не было (кажется, не было) версии напрашивающейся, практически не завуалированной — и базирующейся на сочетании русского личного местоимения с общеизвестным латинским. Мы имеем в виду следующую дешифровку гидронима:
Онегин = Он + Ego, то есть Он + Я.
Такая формула афористично, но поразительно точно и емко описывает самое таинство созидания, рождения пушкинского образа: в некую умозрительную и безжизненную схему (задуманный тип, «Он») привносится «Я» художника — и в процессе творческого акта, поэтического соития (+) возникает «созданье гения» (II, 101).
Трудно представить себе, чтобы Пушкин, с Лицея, как явствует из официальных бумаг, знавший «довольно по-латыне» (VI, 7), уже переболевший Байроном (для которого, напомним, «Он» = «Я») и к тому же питавший слабость к «тайным письменам» (анаграммам, криптонимам, цифронимам и т. д.), руководствовался при выборе фамилии героя какими-либо иными соображениями или, по крайней мере, не учитывал, в числе прочих, и приведенные.
«Писать только (выделено мною. — М. Ф.) о себе самом» в романе Пушкин принципиально не собирался, однако «он сам» в Онегине — и это тоже принципиально — был.
В. Ф. Ходасевич однажды заметил: «То, что некогда пережил он сам, Пушкин нередко заставлял переживать своих героев, лишь в условиях и формах, измененных соответственно требованиям сюжета и обстановки. Он любил эту связь жизни с творчеством и любил для самого себя закреплять ее в виде лукавых намеков, разбросанных по его писаниям. Искусно пряча все нити, ведущие от вымысла к биографической правде, он, однако же, иногда выставлял наружу их едва заметные кончики. Если найти такой кончик и потянуть за него — связь вымысла и действительности приоткроется»[176].
В пушкинском Онегине, несмотря на его «разность» с автором, подобных «кончиков» предостаточно. Временами Пушкин, казалось, даже забывал о «разности» и фактически возвращался к Байрону («Он» = «Я»), «сливался» с героем.
Есть еще одна фундаментальная проблема романа, важная для нашего повествования, — это проблема пресловутой внутренней хронологии «Евгения Онегина». Вокруг нее также накопилось более чем достаточно путаниц и недоразумений, которые происходят главным образом из-за недопонимания пишущими пушкинского замысла «свободного романа», составленного из «пестрых глав» и «пестрых строф», — замысла «романа Жизни».
Пушкинистов, в том числе весьма авторитетных, дезориентировали два высказывания поэта.
В предисловии к отдельному изданию первой песни «Евгения Онегина» (1825) Пушкин сообщил читателям одну «опорную» дату (нотабене: в последующих прижизненных публикациях она исчезла): «Первая глава представляет нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1819 года и напоминает Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона» (VI, 638).
А в примечании к полному изданию «Онегина» (1833) автор дополнительно признался в следующем: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю» (VI, 193).
Получив в качестве щедрых прогонов две вышеприведенные пушкинские фразы, исследователи пустились восстанавливать стройную внутреннюю хронологию произведения. Они скрупулезно, с привлечением уместных и не имеющих к роману никакого отношения источников, высчитывали даты рождения и смерти персонажей, годы и месяцы их дуэлей и замужеств, путешествий, гаданий и снов, время действия различных глав и т. п. Энтузиазм конструкторов таковых хронологических таблиц расширил комментарий к «Евгению Онегину», породил обширную полемическую литературу и занятные наукообразные анекдоты, однако предпринятые изыскания так и не увенчались успехом. Несмотря на всевозможные ухищрения, допуски и натяжки[177], непротиворечивая летопись романных событий у пушкинистов никак не выстраивалась — и не создана она до сих пор.
Она и не могла, и не сможет выстроиться, ибо у Пушкина, похоже, и в мыслях не было создавать единую внутреннюю хронологию «Евгения Онегина» — в том ее сомнительном понимании, которое возникло и утвердилось в пушкинистике.
Поэт не обманул публику: да, в его произведении и впрямь «время расчислено по календарю». Только календарь в «романе Жизни» был не романный — а жизненный, то есть реальный, юлианский календарь Российской империи — или, если угодно, это был календарь трудов и дней самого Пушкина. В «пестрых» главах и строфах романа (рискованно названного нами поэтическими мемуарами) то и дело встречаются опоэтизированные элементы и частицы пушкинской «биографической правды» — и таковые фрагменты нередко сопровождаются указаниями на точные даты подлинных происшествий. Например, знакомое с детства:
В тот год осенняя погодаСтояла долго на дворе,Зимы ждала, ждала природа.Снег выпал только в январеНа третье в ночь… (VI, 97) —
недвусмысленно намекает на зиму с 1825 на 1826 год, когда в северо-западной России и Петербурге стояла именно такая, редкостная для данного региона, погода и снежный покров установился точь-в-точь в указанные сроки[178].
Чтобы определить некоторые реальные календарные даты, надо иметь в виду, что Евгений появился на свет в один год с автором, что они — ровесники (здесь снова: «Он» = «Я»). Допустим, строки о дуэлянте Онегине:
Убив на поединке друга,Дожив без цели, без трудовДо двадцати шести годов… (VI, 170) —
отсылают читателя опять же к многозначительному 1825 году[179].
А стих из описания «уединенного кабинета» Евгения в первой главе:
Философа в осьмнадцать лет (VI, 14) —
ненавязчиво сигнализирует, что здесь речь идет о 1817 годе, — то есть времени, когда Пушкин, окончив Лицей, оказался «на свободе» (VI, 6). (Уверяя публику, что описывает «светскую жизнь петербургского молодого человека в конце 1819 года», поэт, скорее всего, незатейливым способом отвлекал внимание от собственной персоны. Однако вряд ли тогдашние проницательные читатели, особенно принадлежавшие к столичной элите, не заметили, что «двойной лорнет», партер в театральной зале, «боливар» на голове героя и многое другое — очевидные, кричащие анахронизмы («противоречия») для 1819 года, зато характерные подробности для года 1817-го. Да и в воспоминаниях современников о житье-бытье Пушкина в 1817 году есть эпизоды, явно перекликающиеся с его рассказом о занятиях и привычках «молодого повесы» Онегина[180].)
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.