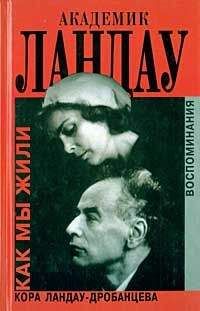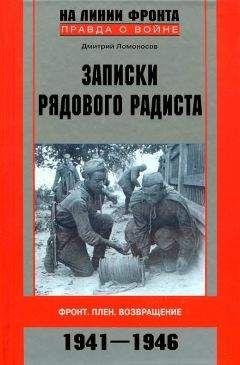Лев Хургес - Москва – Испания – Колыма. Из жизни радиста и зэка Страница 29

- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Лев Хургес
- Год выпуска: 2012
- ISBN: 978-5-9691-0728-1
- Издательство: Литагент «Время»
- Страниц: 36
- Добавлено: 2018-12-10 14:35:37
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Лев Хургес - Москва – Испания – Колыма. Из жизни радиста и зэка краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Лев Хургес - Москва – Испания – Колыма. Из жизни радиста и зэка» бесплатно полную версию:Автор этих воспоминаний, Лев Лазаревич Хургес (1910, Москва – 1988, Грозный), был человеком своего времени: технарем, романтиком, послушным слугой революции. В 14 лет его поразила первая и всепоглощающая, на всю жизнь, «любовь» – страсть к радиоделу, любовь, которая со временем перешла и в «законный брак», став профессией. Эта любовь завела его далеко – сначала, в 1936 году, в Испанию, где он, радист-интернационалист, храбро воевал на стороне республиканцев, и уже в 1937 году – в ГУЛАГ. Львиную долю своего 8-летнего срока он отмотал на Колыме. Между романтизмом Испании и соцреализмом Колымы – тысячи связующих нитей: взаимная слежка, взаимный страх доносительства, взаимные предательства, весь тотальный бесчеловечный советский социум. Читать эти воспоминания интересно и легко: в них и история, и люди, и мужественная борьба за выживание и за достоинство человека в нечеловеческих условиях, и озорной блеск в вечно юношеских и влюбленных глазах.
Лев Хургес - Москва – Испания – Колыма. Из жизни радиста и зэка читать онлайн бесплатно
Сент-Экзюпери летел с нами. Это был солидный мужчина, лет около сорока, темноволосый, весьма осанистого вида. Поскольку из моей кабины открывался наиболее удобный круговой обзор, то он попросил разрешения устроиться у меня. Я, конечно, возражать не стал, и для того, чтобы не давать ему скучать, мобилизовал все свои запасы дикой смеси французского с нижегородским. Несмотря на то что в исследованиях, посвященных Сент-Экзюпери, единогласно утверждается, что он был абсолютно неспособен к усвоению иностранных языков, я беру на себя смелость заявить, что это не совсем так. В беседе со мной он употреблял довольно много русских слов, и мы с ним за полчаса полета сумели объясниться по всем вопросам, интересующим высокие договаривающиеся стороны, и он настолько остался доволен моим обществом, что даже дал мне свою визитную карточку (он, наверно, знал, что после приемки самолет полетит в Париж на авиационный салон) и пригласил посетить его в Париже. К сожалению, я не смог ему ответить взаимностью, так как, во-первых, визитных карточек у меня не было, а пригласить его к себе на квартиру в гости (где восемь человек жили в одной комнате, да еще и с туалетом во дворе), я, конечно, не решился. К сожалению, по причинам, о которых я расскажу ниже, в Париж мне тогда попасть не удалось, а визитная карточка Сент-Экзюпери потом куда-то пропала.
Этот полет 15 мая 1935 года был моим последним полетом на «Максиме Горьком», потому что если бы я совершил на нем еще один полет, то описать его уже, конечно, не смог бы. Приближалось 18 мая 1935 года – день его катастрофы. Надо сказать, что я родился 4 (17) мая 1910 года, так что 17 мая 1935 года мне исполнялось двадцать пять лет. Дата весьма знаменательная, и я решил, не пожалев нескольких получек, ее торжественно отметить. Приготовления к юбилею велись серьезные: когда за несколько дней до даты отец случайно заглянул в шкаф, то у него буквально мурашки побежали по телу при виде такого количества «четвертей» с водкой (причем он видел далеко не все). Весь экипаж «Максима» во главе с Михеевым и его супругой Ольгой Васильевной был приглашен, и ударить в грязь лицом в день своего юбилея я не собирался.
Тогда выходные дни были по «шестидневке» – 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца. Уже на моей памяти дни отдыха несколько раз переносили. До 1928 года они были по воскресеньям, но праздновались все праздники, как революционные (вплоть до свержения самодержавия и дня Парижской коммуны), так и религиозные. Потом известный партийный деятель Ларин[87] изобрел так называемую «пятидневку-непрерывку»: она заключалась в том, что на всех предприятиях и во всех учреждениях каждый работник четыре дня работает, а пятый отдыхает, причем вся работа идет непрерывно, без общих выходных дней[88]. Эта система имела как достоинства, так и недостатки, причем последних было больше. Выходных дней, конечно, получалось больше, чем при семидневке, из-за чего были немедленно отменены все религиозные праздники и часть революционных, оставили только 1–2 Мая и 7–8 Ноября, таким образом недоработку устранили и государство убытка не получило. Но при пятидневке обнаружились крупные неудобства: хотя оборудование предприятий и использовалось более эффективно, ведь для машин и прочего выходных не было, но возник серьезный вопрос с ремонтом: все оборудование работает непрерывно, и для его ремонта и профилактики времени уже не остается. Большие неурядицы получались и в личной жизни людей: в семье работают и муж и жена, дети учатся. У отца выходной в первый день пятидневки, у матери в третий, у детей в другие дни. Члены семьи почти перестали собираться вместе. Как говорится в Библии: «И увидел Бог, что это плохо».
Машины изнашиваются – ремонтировать их некогда, в семьях раздоры, не видя друг друга, муж и жена изменяют с теми, с кем у них общий выходной день… Что делать? Оставить все по-прежнему? Уж больно много праздников, жалко!
И вот придумали «шестидневку»[89]. Количество выходных дней уменьшилось, но про отмененные революционные, а тем более религиозные, праздники, конечно, забыли, ведь даже в учебниках политэкономии для вузов писали: «Одной из главных причин отсталости дореволюционной России было обилие праздников». Вот их и сократили до минимума. В таком виде рабочий календарь и просуществовал до описываемых мною событий.
Естественно, что я перенес свой юбилей с 17 на 18 мая (общий выходной), тем более что на утро 18 мая был назначен полет на «Максиме» и напиваться накануне членам экипажа, конечно, не стоило. Как я уже говорил, этот самолет был сконструирован и построен ЦАГИ по заказу агитэскадрильи им. М. Горького. До начала мая 1935 года все шло нормально, ЦАГИ старалось сбыть самолет, эскадрилья придирчиво его принимала. Но вскоре пошел слух, что в июне самолет будет направлен на авиационный салон в Париж. По логике вещей, лететь в Париж будет тот экипаж, который окажется на самолете к моменту открытия салона, то есть если к тому времени эскадрилья примет самолет от ЦАГИ, то полетит экипаж эскадрильи, если не примет – экипаж ЦАГИ (нас, радистов, это не касалось: радиооборудование изготавливалось и монтировалось не ЦАГИ, и мы полетели бы в Париж в обоих случаях). Тут, как говорится, роли поменялись: ЦАГИ начал тянуть со сдачей самолета, эскадрилья же, наоборот, стала проявлять большую покладистость. Пришлось вмешаться командиру эскадрильи – Михаилу Кольцову, в результате чего был наведен порядок. ЦАГИ получил указание «формировать» сдачу самолета после 18-го мая. В качестве одного из этапов сдачи должен был быть совершен полет на побитие мирового рекорда поднятия наибольшего полезного груза на высоту 5000 метров. В свете изменившейся ситуации руководство ЦАГИ (пользуясь отсутствием главного конструктора – А. Н. Туполева[90], находившегося в то время в США, который бы никогда этого не допустил), решило 18 мая 1935 года на не принятом еще правительственной комиссией самолете «прокатить» наиболее отличившихся конструкторов и строителей «Максима» и членов их семей над Москвой. От желающих, конечно, не было отбоя. С большим трудом составили списки, и 18 мая 1935 года в десять часов утра должен был начаться полет.
Главный приемщик самолета Я. Хорват категорически возражал против этого (конечно, не из соображений безопасности, которая ни у кого не вызывала сомнений), и, так как его не послушали, демонстративно, в знак протеста, отказался в этом участвовать, несмотря на то что до этого всегда летал, начиная с первого отрыва «Максима Горького» от земли. Хотя моей помощи в подготовке к юбилею дома и не требовалось (с этим вполне успешно справлялись мать и сестра), я все же под этим предлогом отпросился у Михеева на 18 мая. Да и моя аппаратура в тот день не должна была работать. Михеев не возражал, но предложил мне найти себе замену из работников ЦАГИ, имевших допуск на самолет (справедливо полагая, что наличие посторонних на самолете, среди которых могли быть и радиолюбители, может привести к пропаже дефицитных радиоламп из нашей аппаратуры). Я отправился на поиски и встретил инженера БОС (Бюро оборудования самолетов) В. П. Бунина, который охотно согласился отлетать за меня на «Максиме» 18 мая. В результате я остался жив, а погиб – вместо меня! – Бунин, не имевший отношения к экипажу. Другой наш радист К. В. Байдун также не принял участия в роковом полете: он жил далеко за городом и опоздал на электричку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.