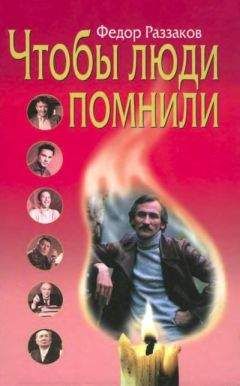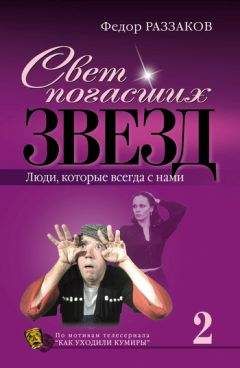Федор Раззаков - Самый добрый клоун: Юрий Никулин и другие… Страница 18
Тут можно читать бесплатно Федор Раззаков - Самый добрый клоун: Юрий Никулин и другие…. Жанр: Документальные книги / Биографии и Мемуары, год 2012. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте 500book.ru или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
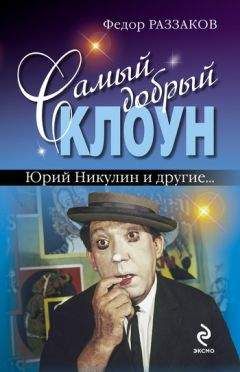
- Доступен ознакомительный фрагмент
- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Федор Раззаков
- Год выпуска: 2012
- ISBN: 978-5-699-53770-9
- Издательство: Эксмо
- Страниц: 23
- Добавлено: 2018-12-10 17:48:35
- Купить книгу
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Федор Раззаков - Самый добрый клоун: Юрий Никулин и другие… краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Федор Раззаков - Самый добрый клоун: Юрий Никулин и другие…» бесплатно полную версию:Феномен советских кинокомедий настолько удивителен и непостижим, что не разгадан и по сей день. Подавляющее число зрителей разных возрастов считают их непревзойденными, совершенными, являющими собой эталон искреннего, чистого и светлого юмора. Фильмы с участием Юрия Никулина, Евгения Леонова, Сергея Филиппова, Михаила Пуговкина, Георгия Вицина, Фрунзика Мкртчана и многих других «королей советского смеха» можно пересматривать бессчетное количество раз. Они никогда не надоедают, они предельно позитивны и несут в себе ни с чем не сравнимый заряд доброй, ласковой и уютной энергии. Помимо широко известных и всеми любимых комедийных актеров и юмористов, в СССР были сотни выдающихся, а также просто талантливых представителей «веселого жанра», способного удовлетворить самый изысканный вкус. А сегодняшний юмор, по мнению автора этого биографического исследования, в большинстве своем рождает на лицах людей вовсе не улыбку, а пошлую ухмылку или и вовсе гримасу стыда. Почему? Что случилось с отечественным юмором? Об этом Федор Раззаков размышляет в своей книге.
Федор Раззаков - Самый добрый клоун: Юрий Никулин и другие… читать онлайн бесплатно
Федор Раззаков - Самый добрый клоун: Юрий Никулин и другие… - читать книгу онлайн бесплатно, автор Федор Раззаков
Ознакомительная версия произведения
Возникли непредвиденные ошибки. Ведутся работы по восстановлению. В ближайшее время текст книги будет доступен
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Ничего не найдено.