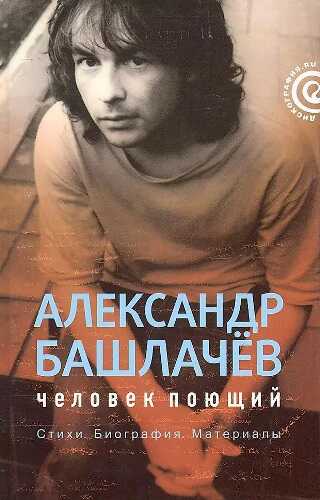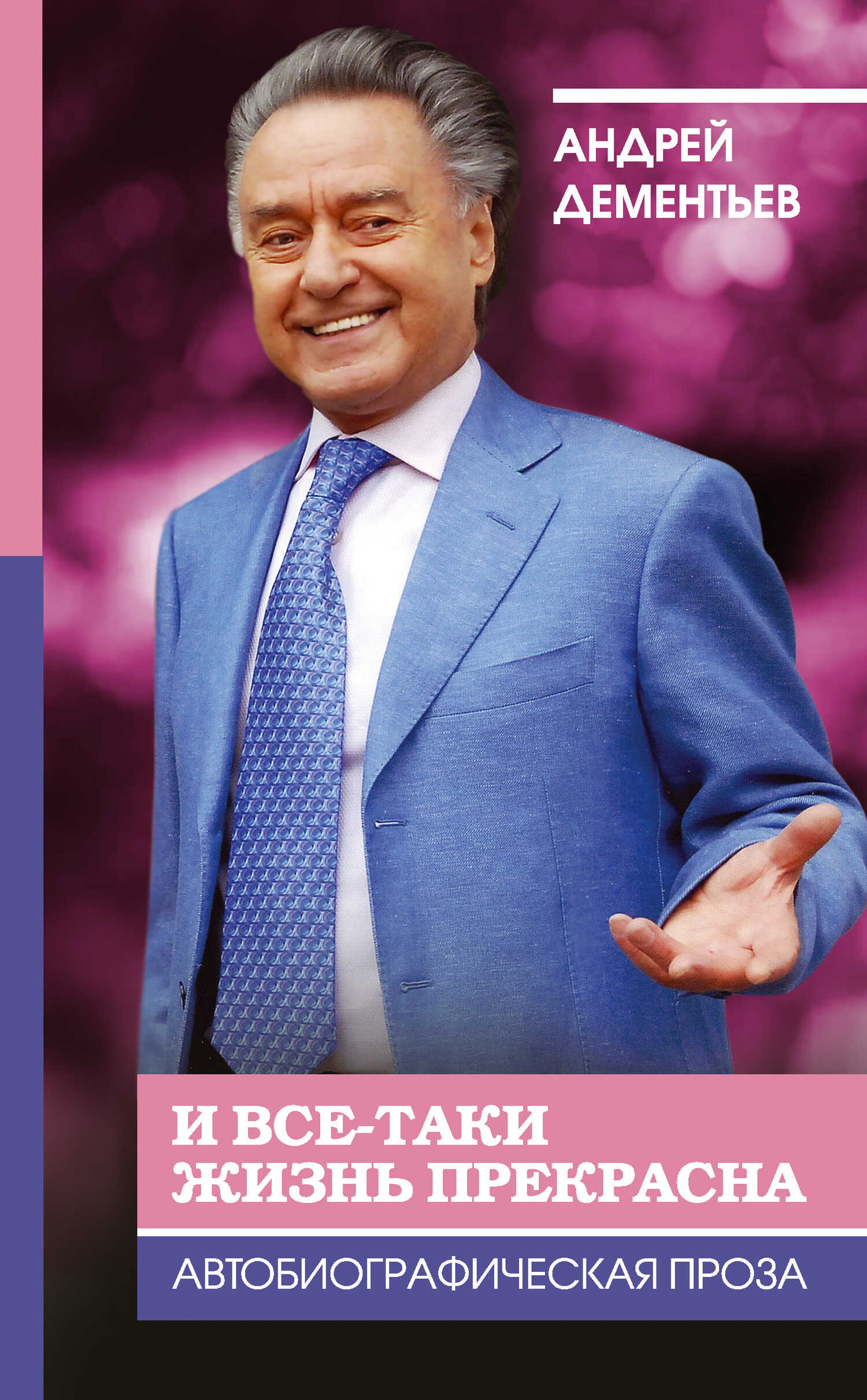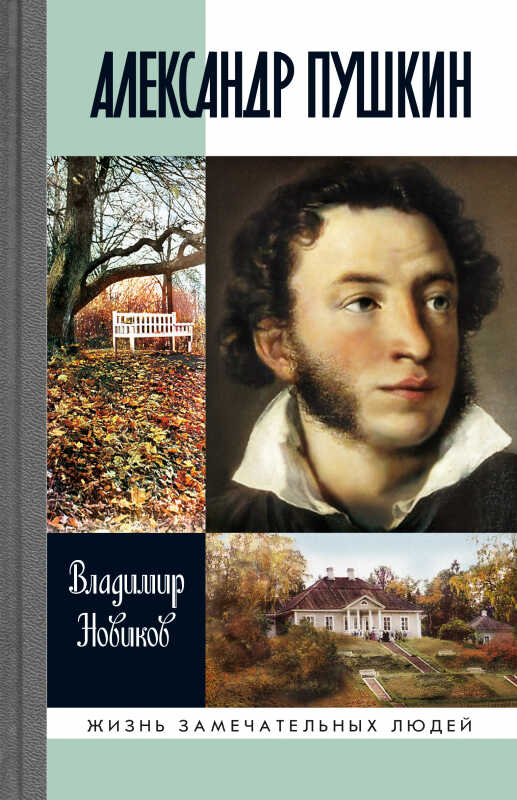«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова Страница 16

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары
- Автор: Елена Генделева-Курилова
- Страниц: 58
- Добавлено: 2025-08-29 02:03:35
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу ««Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова» бесплатно полную версию:28 апреля 2025 года Михаилу Генделеву исполнилось бы 75 лет. «Поэт невероятного, головокружительного масштаба, он явно не занял того места в русской словесности, которое ему полагается по праву» (Михаил Эдельштейн). Сборник, приуроченный к юбилейной дате – это попытка друзей поэта, бывших рядом с ним в Ленинграде, Москве и Иерусалиме, создать портрет яркой и парадоксальной личности, гения двух стран и двух культур, автора концепта «израильской литературы на русском языке» и одного из самых ярких ее творцов. Важная часть этого портрета – избранные произведения Михаила Генделева, абсолютно узнаваемые не только по фирменной «бабочке» стихотворных строф, но и по мощи и оригинальности поэтического высказывания.
«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - Елена Генделева-Курилова читать онлайн бесплатно
с войны не корчевали
секретный змерз ревень тогда ещё майор
Здесь появляется и его любимая ученица Анна Карпа, она же Анна Горенко. Встреча всё ближе, за полустанком или за туманом, – в общем, в самом что ни на есть дачном и Пастернаковом интерьере.
и
маргариток вдоль
в грунты снегосуглинка
зарытых в клумбы где
анютины глаза где многолетней арлекинки
захлопнуты
земли
в схватившейся воде.
Когда ты точно знаешь, что смерть близко, но тебя это совершенно не беспокоит – тогда ты поэт и царь в одном флаконе. Генделев устал от ближневосточной жары. За занавесом ему был нужен холод его детства – ну хотя бы любимого (с его слов) Карельского перешейка. Но только не здесь и не летом.
Как сказал один из важных генделевских предшественников практически на заданную тему:
Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.
И дальше уже – классический финал. В виде вальса и одного единственного трёхсложного: на-на-всегда.
Это то самое навсегда, на которое Генделев остаётся. С музыкой и под снегом. Кто бы что прежде на незаданную тему ни рассуждал.
Демьян Кудрявцев
Генделев. Поэтическое служение
Память начинает меня подводить – еще бы, сегодня я старше, чем был Генделев, когда мы познакомились. Даже обстоятельств нашего знакомства я не помню. Это было в Иерусалиме 34 года назад, но ни места, ни деталей, ни первых сказанных слов я не могу восстановить. Дистанция, возникшая между нами с его уходом, и так все время растет, и нет нужды увеличивать ее отстраненностью и объективностью свидетельства: Миша Генделев был для меня фигурой практически отцовской, с годами и пришедшими с ними болезнями и капризами стал (как часто бывает в семьях) фигурой почти сыновьей, а после смерти ученическая моя роль превратилась чуть ли не во вдовью, так часто мне приходится писать и говорить о нем. Так что если о чем мне сегодня осталось и имеет смысл говорить, то не о Генделеве, каким его помнят и без меня – с его халатами, сковородками, инвалидной коляской, мансардой и котом, – не о генделевских стихах (тут читайте вайскопфовские разборы, которые сами по себе – одна из высших поэтических наград), а о Генделеве-литераторе, Генделеве – практике и организаторе поэтической работы.
Понимая и уместность и необходимость именно такого воспоминания, я также признаю, что нынешнее восприятие его слов и поступков, сегодняшнее понимание его роли и заслуг пришли ко мне не сразу, и мне приходится вычленять подходящие кадры и эпизоды из плотной, но нерезкой суммы воспоминаний, наводить фокус на то, что я так по-юношески бездарно оставлял на периферии восприятия. Генделев, как очень дешевый фокусник, постоянно отвлекал тебя цветной мишурой внешнего – кичливого, нарочитого, витиеватого, вздорного, мелкого, – ничего не пряча и не скрывая, кроме того самого факта, что дешевым фокусником он не был.
Формально генделевская поэтическая установка была проста, и совсем не оригинальна. Он требовал от поэта уникальности позиции, уникальности интонации, примата служения и мастерства.
Служение он понимал так: ничто в жизни не стоит выше поэтической работы и не должно помешать ей, все происходящее должно быть частью поэтического восприятия себя и действительности, и такое восприятие должно побуждать к поэтическому труду. Конечно, Генделев придрался бы к такой казенной формуле из любви к точности и из страсти придираться, но пока он мертв, я настаиваю, что эти слова почти полностью его передают его представление о поэтическом служении, в котором он был и истов, и последователен, требователен к себе и к остальным.
Предначертанность и судьбоносность поэтической миссии долгие годы являлись вполне общим местом для русской литературы, равным образом устраивая и романтиков, и модернистов весь XIX век и вплоть до середины XX. Публичный разрыв с этой позицией стал зарождаться именно в генделевском поколении, став декларативным у следующего – прежде всего у Дашевского и Гронаса, где отказ от особого поэтического права, от позы, носит не только идеологический, но и эстетический характер. В этом отношении Генделев – абсолютный новатор во многих формальных аспектах – был консерватором и пассеистом, до комичного старомодным. Но приверженность к романтической шелухе утверждений Генделев оплачивал абсолютной последовательностью и серьезностью поступков. Он неизменно отвергал любые действия и соблазны (карьерные, географические, бытовые), которые могли, с его точки зрения, помешать его стихосложению – или общественному отношению к нему как к поэту, в первую и единственную очередь. Изучение иврита, врачебная карьера, любая «обычная» деятельность и работа, все, на что вынужденно или с интересом соглашались другие литераторы в эмиграции, а после прихода капитализма в Россию – и в метрополии, были для него неприемлемы. Неудачи на внепоэтическом поприще фиксировались с облегчением и возводились в принцип: «иврит не выучил из гигиены творчества».
Поэтическое служение Генделева не имело ничего общего с гуманистическими декларациями шестидесятничества или полурелигиозным восприятием миссии поэтов серебряного века. Полная выкладка поэтической причастности, верность поэтическому в себе и в мире, были для него формой ответственности исключительно перед собой, перед собственным даром – и формой эгоизма, безусловно.
Генделев нередко цитировал Давида Дара, с эмиграцией в Израиль отказавшегося от советского комфортного положения вдовца писательницы Пановой, и умершего в иерусалимской бедности и относительном забвении: «Заниматься нужно только литературой, остальное – неинтересно». Превращение жизни в литературу и постоянная попытка претворения литературы в жизнь, были с точки зрения Генделева единственными достойными его занятиями, и именно эти умения он более всего ценил и в других поэтах.
Уникальность позиции Генделев обрел во время Ливанской войны, и с ней пришла уникальность интонации – хотя лучшие тексты «Послания к лемурам» уже полны ее предчувствия, а формальный контур бабочки уже найден, пусть еще не наполнен поэтическим содержанием, не оправдан ритмически и синтаксически, но уже заявлен. Превращение опыта и географии в поэтическое мировоззрение случай совсем не новый, но все более редкий, если не брать в расчет спекуляций новейших донецких киплингов. Но уже и в восьмидесятые он был мало приличен с точки зрения обновленных гуманитарных представлений. В нем было слишком много хемингуэевского, гумилевского, он был чужд и противоположен до противного общекультурному представлению о текущей роли поэта. Еще более он был бы невозможен сегодня. Но понимать и описывать генделевские пафос и позу исключительно как милитаристские в корне неверно.
Герой Генделева не нападает и не мирит, он не идет во главе войска, он просто придан ему – и поэтому предан, это пафос иного толка, отчасти сходный с врачебным. Генделевский текст из раза в раз выполняет лихой финт, который в жизни выполнял его автор, – притворяется не тем, что есть, при этом никого не обманывая. Вот притворная полная ярости «элегия», а вот бравурный марш со словами похоронного извещения. Вся уникальность позиции Генделева именно в его подчиненности войне, в его признании и согласии с причастностью, в его непротестной вынужденности – участь военной мошки, мотылька, не выжившего, а опоздавшего на собственную гибель. Невероятно мощные и яркие тексты Генделева-солдата, Генделева-воина это тексты о смирении, в которых война не призвание, а судьба, долг – но ни капли не священный, скорее древняя задолженность, которую проще отдать, чем оспорить.
Генделев избрал очень личный угол зрения и способ проговаривания в стихе. Это потребовало от него очень акцентированного местоимения. Генделевское «я» все время норовит вырваться
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.