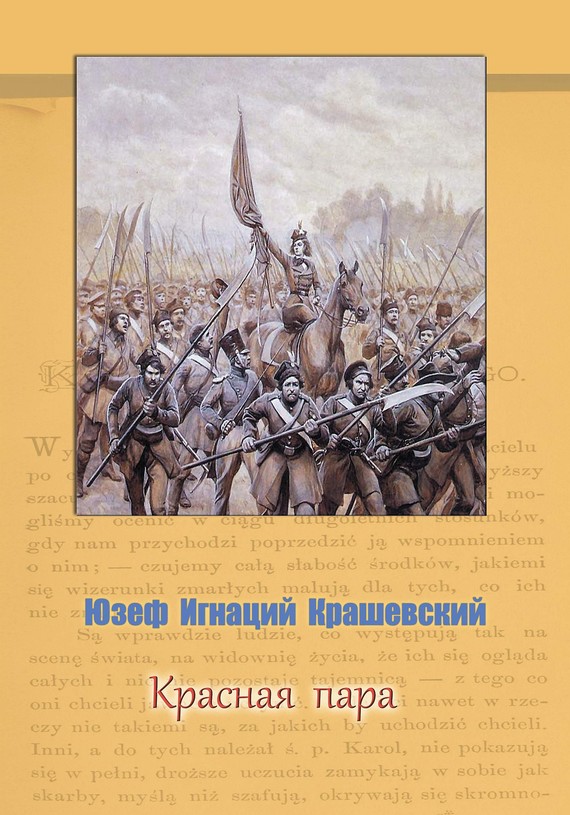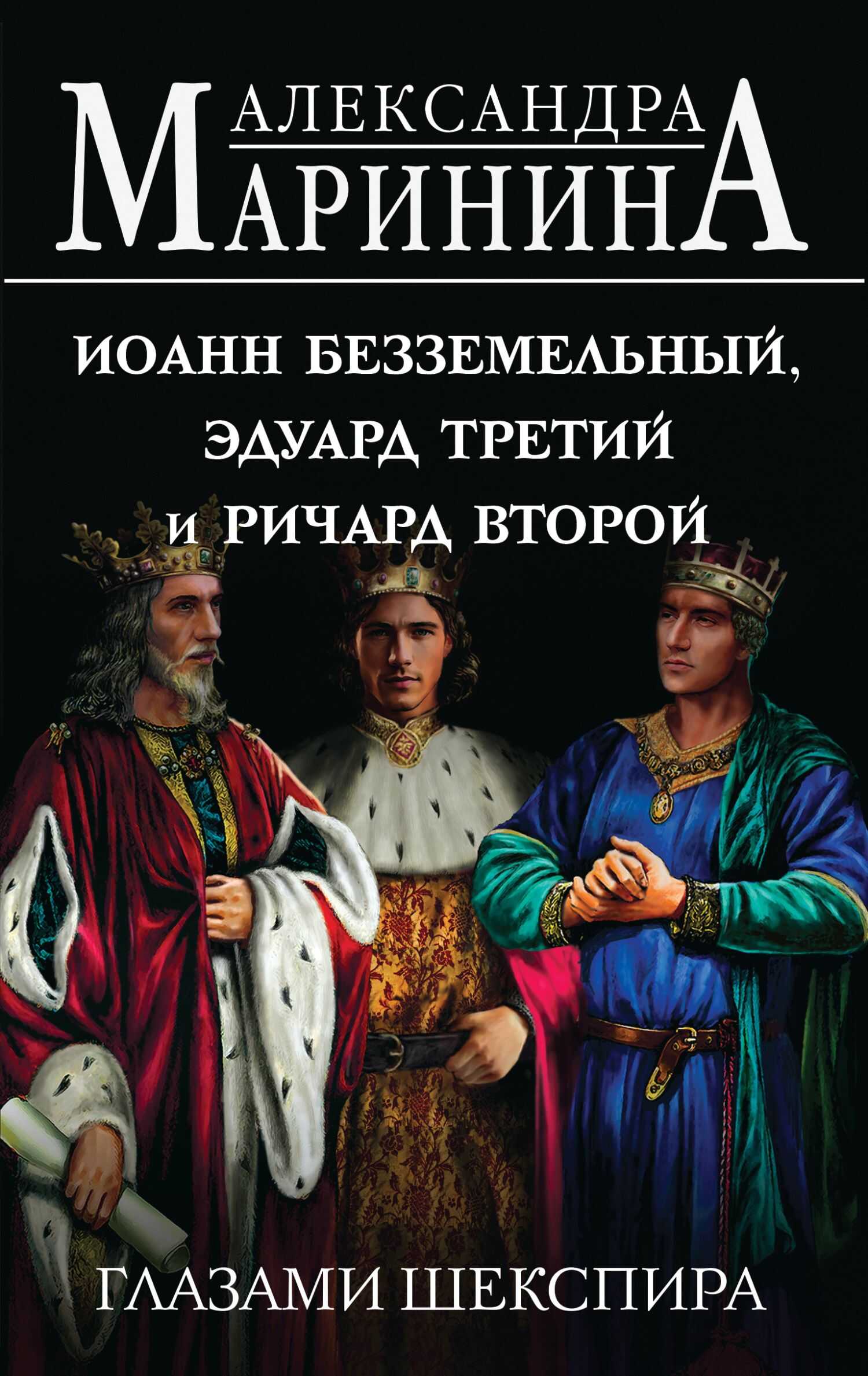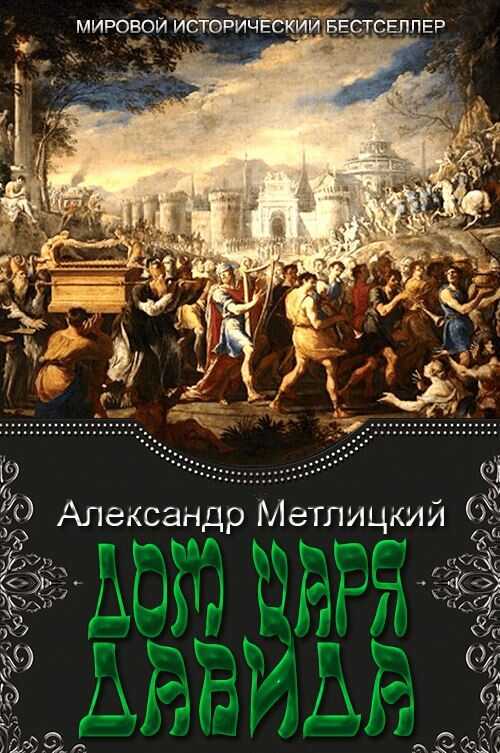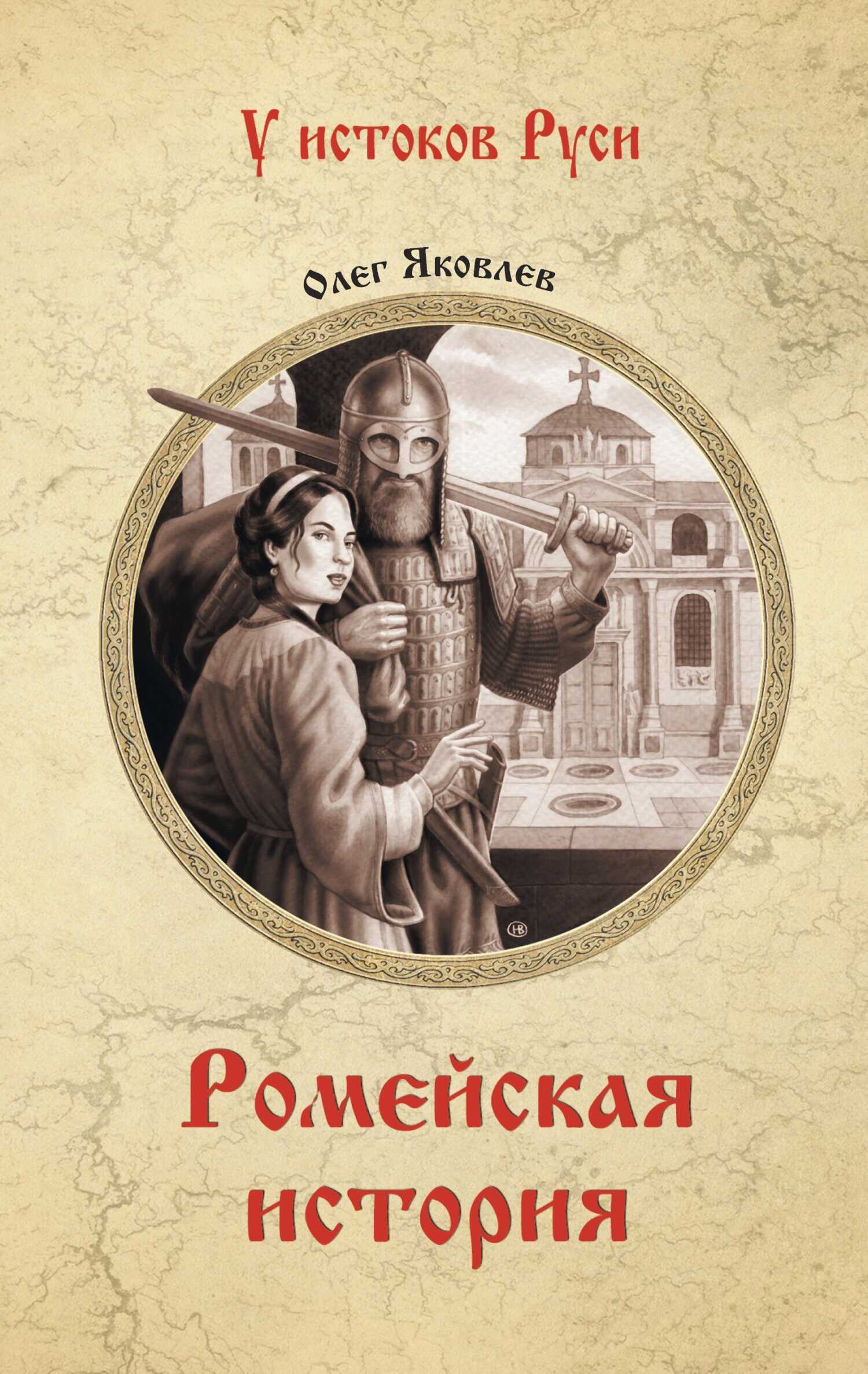Господин Великий Новгород. Марфа-посадница - Дмитрий Михайлович Балашов
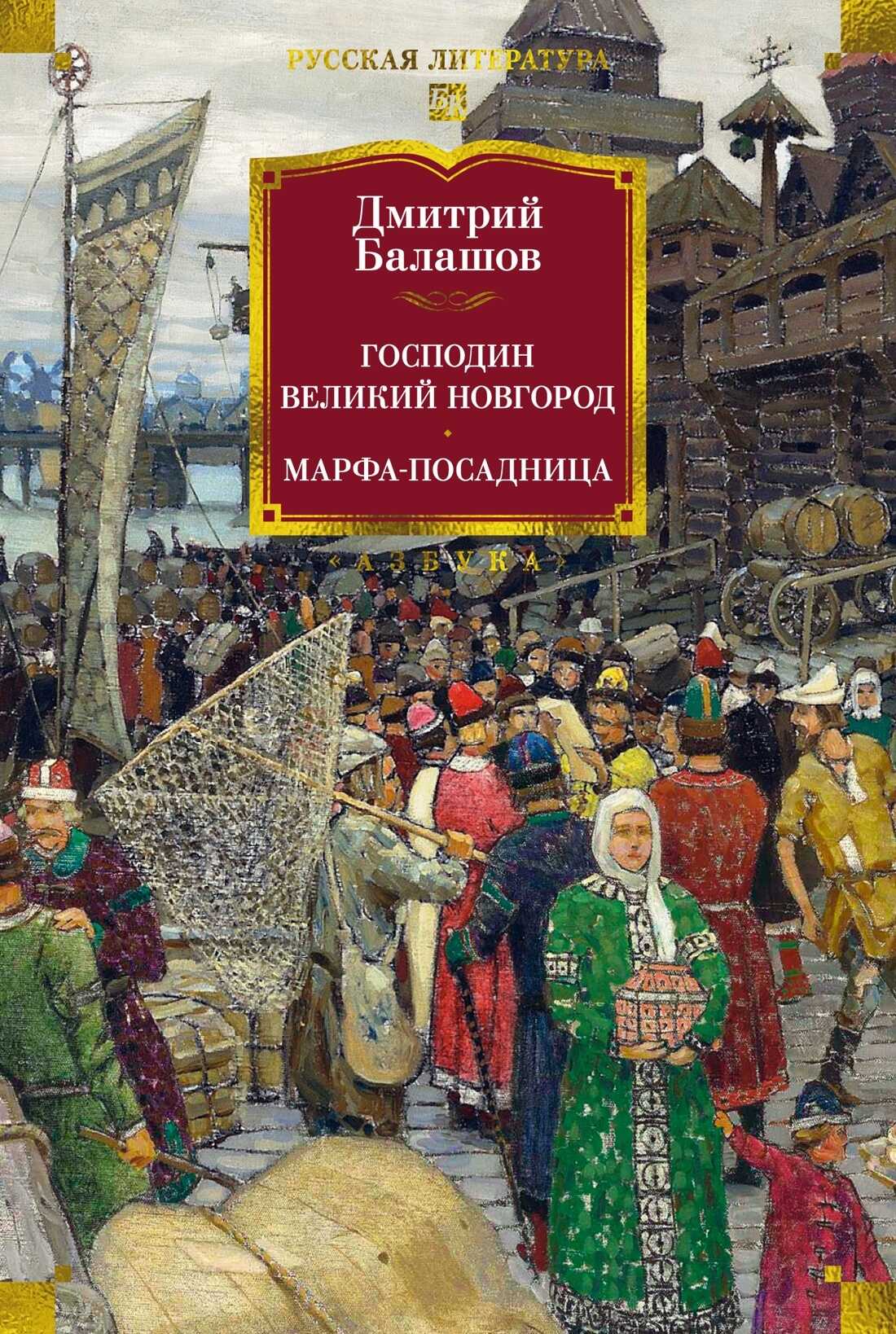
- Категория: Проза / Историческая проза
- Автор: Дмитрий Михайлович Балашов
- Страниц: 155
- Добавлено: 2025-07-01 10:29:23
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Господин Великий Новгород. Марфа-посадница - Дмитрий Михайлович Балашов краткое содержание
Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Господин Великий Новгород. Марфа-посадница - Дмитрий Михайлович Балашов» бесплатно полную версию:С повести «Господин Великий Новгород» (1967) началась писательская карьера филолога-русиста, фольклориста и историка Дмитрия Балашова – автора знаменитого цикла исторических романов «Государи Московские». Первый литературный опыт ученого проложил дорогу более масштабному произведению – роману «Марфа-посадница» (1972), также посвященному драматическим эпизодам истории Новгородской республики.
Первым же литературным сочинениям Дмитрия Балашова присущи характерные черты его зрелого творческого стиля: и повесть, и последовавший за ней роман чрезвычайно убедительно и достоверно изображали жизнь новгородского общества тех далеких веков, бытовой и духовный уклад жизни. Населив древнюю республику выразительными персонажами, частично историческими, частично вымышленными, Балашов превратил не только речь своих героев, но и авторский текст в мастерскую стилизацию языка древнерусских литературных памятников.
В настоящий сборник вошли оба произведения «новгородского цикла».
Повесть «Господин Великий Новгород» посвящена героической эпохе Новгородской республики и повествует о походе в Ливонию 1268 года и грандиозной победе в битве при Раковоре. Действие романа «Марфа-посадница» переносит читателя в 1471–1478 годы, в гущу конфликта между Новгородской республикой и Великим княжеством Московским, закончившегося гибелью вечевого строя…
Господин Великий Новгород. Марфа-посадница - Дмитрий Михайлович Балашов читать онлайн бесплатно
Дмитрий Балашов
Господин Великий Новгород. Марфа-посадница
© Д. М. Балашов (наследники), 1967, 1972
© Оформление ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®
* * *
Господин Великий Новгород
I
Олекса Творимирич возвращался из немцев, куда ездил по торговым своим делам, домой.
Под Саблей, обогнав обозы, – Радько довезет! – налегке, сам-двое со Станятой (нетерпение одолело) пустились вперед, и вот уже пошли ближние погосты да пожни, чаще и чаще заобгоняли возы с сеном, дровами, обилием, – близился Новгород.
В воздухе пахло весной, ноздреватый снег оседал рыхлыми тяжелыми кучами, проваливался под полозьями саней. Копыта взбрызгивали ледяную подснежную воду. Взъерошенные, отощавшие в долгом пути кони то и дело сбивались, вразнобой дергая упряжь. Солнце по-настоящему пекло, и купец, радуясь близкому дому, здоровью, весеннему солнцу, распоясался и распахнул шубу: любо!
– Эй, Станька! Любава-то без тебя не сблодила чего?
Тот не расслышал слов, оглянулся на голос хозяина – рожа веселая, тоже рад, прокричал в ответ что-то.
– Чегой-то? – переспросил Олекса.
– Вона! София видна!
Над верхушками елей уже посвечивал золотой шлем, и, когда в ясном воздухе, мерно отделяясь друг от друга, поплыли знакомые звоны, Олекса Творимирич широко, радостно, истово перекрестил себя: приехали! Дома!
Вот и Левонтьев крест, вот и часовня, а вот и конная сторожа новгородская, княжеская.
Разом переглянулись Олекса со Станятой, озорниковато кинув глазом на прикрытую рогожей тушу.
Кабана свалили за Мшагою: дуром сунулся к обозу, облаяла выжля[1]. Олекса сгоряча кинулся наперехват с коротким мечом, да подкатнулась нога, провалилась в снег, меч прошел скользом. Зверь рванулся, выгорбив щетинистую серую спину, пошел на Олексу. Станята подхватил кабана на рогатину, спас. Олекса вскочил, ударил снова – в бок и не промазал на этот раз. Кабан дрогнул и стал валиться на задрожавших ногах, хрюкнув, посунулся в сугроб, заливая вспаханный снег кровью.
За охотой забыли все на свете, а тут вдруг холодом прошло по спине, никак на княжьих угодьях наозоровали? А свиньи бити князю за шестьдесят верст от города, – плохой купец не знает договорных уложений наизусть! Посмотрели друг на друга. Станята хмыкнул, разлепил толстые губы:
– А, никто и видел!
Олекса воровато повел глазами, бросил хрипло:
– Ладно, не бросать же… (Ай взять да отдать?.. Да и отдавать жаль, такой подарок!) Была не была! Заворачивай сани!
Свели упиравшихся, всхрапывающих от запаха крови лошадей в снег. Завернули зверя в мешки, в сено, чтоб не капала кровь, завалили сверху. Лишь бы довезти до Малых Пестов, там уж можно и открыть – поди проверь, где били!
Ночью Олекса вставал, подходил к возам, отогнал зарычавшую собаку. Под санями натекла теплая лужица. Крякнув, натужился, сдвинул воз, затоптал, закидал снегом. Так и береглись до Шелони, но бог миловал. Дальше уже везли закоченевшую тушу открыто, хвастались удачей – знай наших! Мужики прищелкивали языком, тыкали зверя кнутовищами:
– Матерущий, беда!
Один только вредный старик прищурился:
– Далеко били? Цегой-то весь закоценел!
– Дивья, не мало и стояли, сани поломалися! – ответил Олекса, отводя глаза.
– Не эти ли?
– Ну-ко, старче, отдай! – прикрикнул Станята. – Кажному тут ротись[2] да божись!
И снова обошлось.
Обошлось и с новгородской сторожей, те ничего не спросили, покосились только.
И вот уже сани выбежали на простор, и весь Господин Великий Новгород открылся вдруг, праздничный под весенним солнцем, от Антониева монастыря на той стороне Волхова, от Зверинца и до далекого, теряющегося в весенней дымке Юрьева. И пригородные церкви, и посады, и бревенчатая стена острога, над которой главы и кресты, и грозные белокаменные стены Детинца, и золотоглавая София, сердце Новгорода, в ней же Спас Вседержитель со сжатой десницей. И пока не разогнется рука, дотоле стоять Великому Новгороду нерушимо.
Вот и башня въезжая. С нависших стрельниц волглой, почерневшей городни[3] капала вода. От каменной стены башни отделился воротный сторож – грелся на солнце, не торопясь, подошел второй. Поздоровались.
– Ай издалека?
– Из немцев!
– Цегой-то там раковорци, воевать не собралися?
– Да к тому идет!
– Вона, все в одно бают!
Воткнув копье в снег, бегло осмотрел воз:
– Товара не везешь ле? Мотри, какого зверя у князя украл! Шуткую… Проезжай, купечь!
Гулко протопотав в сводах ворот, выехали на Легощую. И пошли терема новгородские, вырезные крыльца, висячие сени, крутые чешуйчатые кровли, крытые дубовой дранью, серые и цветные: зеленые, голубые, красные, – на иных сверкала даже позолота, – наполовину уже освобожденные от снега, с бахромами сверкающих сосулек на мохнатых свесах крыш и потоках. Там и сям, в коричнево-сером море бревенчатых строений, розовели каменные стены церквей и боярских палат. Улица была по-весеннему полна народу; овчинные шубы нараспашь, круглые шапки с ярким верхом лихо сдвинуты на ухо, цветные платы широко открывают румяные лица. Ремесленники и купцы, жонки посадские, боярышни, в крытых алым сукном епанечках, в цветных, мягких тимовых[4] сапожках, мальчишки, со свистом стайками шныряющие под ногами, пока кто-нибудь из старших не шуганет расшалившихся озорников. Кто за делом, кто и без дела, гуляючи, ради ясного дня и солнца приветного. Ревниво сравнивал Олекса наметанным глазом наряды своих горожан с иноземными, немецкими. Родные были ярче, цветистей, богаче головные уборы женщин, больше багреца и черлени, восточного пестрого тканья.
Полозья саней, перескакивая через кучи оледенелого тающего снега, стучали по плахам тесовой мостовой, уже высыхающей кое-где на солнцепеке. Кони, ободрясь, тоже чуя конец пути, дружнее взяли.
– Гони! – прикрикнул купец, и расписные сани понеслись, виляя из стороны в сторону, скользя по снегу и колотясь по мостовой. – Гони!
Мужики и бабы, сторонясь от разбежавшихся лошадей, смеялись, бранились вслед:
– Ишь понесло купця!
– К цорту в пекло торописсе?
Какой-то широкоплечий плотник с толстым бревном на плече сделал движение, будто бросает бревно под ноги коням, те шарахнулись вбок, почти вывернув купца из саней, хрястнув резным задком о бревенчатый уличный тын-огорожу. Едва удержался Олекса, ругнулся, но и озорной мужик не испортил радостного настроения, уж больно хороши были день, весна, Новгород!
Перед Детинцем придержали. Шагом въехали в каменную арку ворот, увенчанных старинной чудотворной иконой, прикрытой свинцовой кровелькой от дождя и снега; шагом проехали Пискуплю – мимо Владычного двора, посадничьих палат, складов, охраняемых владычной сторожей. Налево поднялась величавая стена Софии, перед которой оба обнажили головы, направо – соперничающий с нею собор Бориса и Глеба, имя строителя которого, Сотка Сытинича, за сто лет уже успело обрасти легендами.
– Правда, бают, Сотко гусляр был? – спросил Станята, задирая голову.
– Не, – отозвался Олекса, тоже любуясь собором, – кажись, боярин. Это поют-то про которого, так тот другой!
Богородицкими воротами с вознесенной над ними легкой, устремленной в голубое небо надвратной церковью спустились к реке.
Ослепительно-синей от неба и снега на Волхове показалась родная Торговая сторона, Торговый пол. Вот проехали Великий мост, вот заворотили к себе, на Славну. Мимо Ярославова дворища, мимо святого Николы, мимо Параскевы Пятницы, мимо торга, мимо вечевых гриден, соборов, лавок, мимо Варяжского двора, мимо хором Нежилы, Страшка, Иванки – Иванко-то новые ворота поставил, гляди-ко! – мимо терема Якуна Сбыславича, мимо Хотеновой поварни… А вот уже там, за тем поворотом, и Олексин дом, отчий кров, родимое пепелище, свое, отцово, дедино.
Дедино!
Уже тому близко лет семидесяти, как дед Лука, разбогатев на соли, переехал из Русы в Новый Город, записался в городское «сто»[5] в Славенском конце, вступил в братство заморских купцов, откупил усадьбу, поставил терем.
Отсюда, от того, первого, терема, начинается родной дом.
В том тереме на другой год по переезде родился
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.